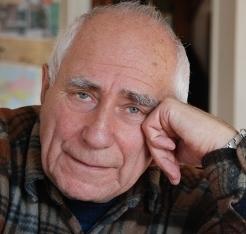«Вот иврит — это язык!»
ИБ: Советская власть разорвала связь поколений: старшее поколение уходило, а молодежь ничего не знала. Мой случай был поистине уникальным, но не единственным. Позже я встречу тех, кто, как и я, самостоятельно пришли к своему еврейству. Советские евреи были разобщены — даже в городах, где евреи жили тысячами, не было ни единого места, где они могли бы встречаться и общаться друг с другом. То, что в этих условиях произошло возрождение еврейства бывшего СССР, иначе как чудом назвать нельзя. Расскажу вам такой эпизод. Я уже работал научным сотрудником в одном закрытом институте, и мои занятия ивритом были тайной для всех, даже для друзей и близких. Изучение иврита приравнивалось к антисоветским деяниям, и если бы об этом стало известно на моей работе, я бы, конечно, сразу вылетел оттуда. В то время я преподавал математику в одном учебном центре для работающей молодежи. Никого я там не знал, не общался — приходил, проводил занятия и уходил. Но был там один человек, тоже еврей, с которым мы иногда вместе ехали с работы в автобусе, беседовали на разные темы, но только не на еврейскую. У Карла Ефимовича — так звали этого знакомого — было хобби — он увлекался эсперанто. Рассказывая мне, как это интересно, он и меня пытался увлечь. Но я отмахивался от его предложений, аргументируя тем, что лучше учить английский. Но однажды во время такой поездки, потеряв на какое-то время бдительность, я решил удивить его своим необычным хобби и достал из потайного кармана израильский учебник иврита со словами: «Что там эсперанто, вот иврит — это язык!» И произошло невероятное — он заговорил со мной на иврите. Оказалось, что и он учит иврит. Но он был в компании, у них была своя группа, они встречались, вместе учили иврит, обменивались еврейскими «антисоветскими» книгами. У них были связи с посольством. И он привел меня в свою группу. Это был 1968 год, первая годовщина Шестидневной войны. На майские праздники мы пошли в трехдневный «сионистский поход». Там я открыто наслаждался ивритом, еврейскими разговорами, песнями. Так в моей жизни произошел переворот. Я понял, что надо «завязывать» с моим секретным институтом. Хотя как раз в то время я успешно защитил диссертацию и получил заветную должность научного сотрудника и приличную зарплату. Казалось бы, живи и радуйся, но это было уже не для меня. В начале 1971 года я подал заявление в ОВИР на выезд в Израиль.
ЕП: Так за что вы боролись — за право изучать культуру, язык в СССР или за право на выезд в Израиль?
ИБ: Это было еврейское движение, в котором были и борьба за выезд, и борьба за возрождение еврейской культуры. Я особенно остро чувствовал, что советские евреи обделены в приобщении к духовным ценностям нашего народа. Причем к самым фундаментальным — языку, истории, национальной культуре. Мы наглухо отрезаны от общения со своим народом за пределами СССР, даже видеться со своими родственниками нам не разрешено. Понимая свое бесправие, евреи в СССР были советскими людьми, т.е. понимали, что можно, что нельзя, страх был глубоко укоренен в душах людей, с ним рождались и так жили. Но тогда же после Шестидневной войны появились первые ростки национального самосознания, люди все больше требовали репатриации в Израиль. Но выезда тогда не было совсем, политика в еврейском вопросе была — «держать и не пущать». И вот тогда появлялись смельчаки, которые решались сделать первый, отчаянный шаг. Это была и попытка захвата самолета — ленинградское «самолетное дело», и голодовка грузинских евреев на Центральном телеграфе, и ряд других. Их последствия были совершенно непредсказуемы — «самолетчиков» посадили на долгие годы, других вынуждены были отпускать. Эти самоотверженные акты борьбы пробили первую брешь в непроницаемом «железном занавесе», за этими первопроходцами пошли сотни и тысячи других. Чтобы сбить эту волну исхода власти, прибегли к арестам и репрессиям активистов, начали широко практиковать отказы в выезде.
Я пробыл в отказе долгие 17 лет. Они были заполнены борьбой за права евреев на свою культуру, распространением материалов об Израиле и еврейском народе.
ЕП: Но первый раз вас, кажется, формально посадили не за пропаганду языка и культуры, а за тунеядство?
ИБ: Меня посадили за то, что я, возможно, слишком активно выступал — распространял еврейский самиздат, писал обращения, письма протеста, боролся за легализацию иврита. Я был в числе тех, кто настаивал, чтобы преподавание иврита было признано легальным занятием. Другим словами, чтобы иврит обрел легальный статус, учителя не боялись его преподавать, а ученики — изучать. Без этого наши ульпаны были «антисоветскими сборищами».
Как известно, всех, кто обращался в ОВИР с заявлением о выезде, практически каждого, увольняли с работы, после чего получить работу, соответствующую твоей квалификации и образованию, было невозможно. Человек был обречен жить под дамокловым мечом ареста за тунеядство, и потому большинство отказников занимались малооплачиваемым неквалифицированным трудом. В 1977 году — я был в отказе уже пять лет — я осмелился выступить с отказом от такого насильственного «трудоустройства» и потребовал, чтобы мои уроки иврита были признаны формой общественно-полезного труда. Разумеется, это был большой риск, и я понимал это. Но в 70-е годы было еще такое «вегетарианское» отношение к еврейским диссидентам. А спустя 6 лет, в 1982 году, когда я был арестован в третий раз, судили меня по статье «антисоветская агитация и пропаганда» за те же самые проступки. Времена были уже другие.
ЕП: С другими еврейскими диссидентами, например с Натаном Щаранским, вы общались в СССР?
ИБ: Щаранский появился в движении году в 1974-м. Он был очень активен, знал английский, что тогда было редкостью, его все уважали. Мы не были большими друзьями, и он намного моложе меня. Он был из тех, кого называли «политиками» — больше боролся за выезд, а я был из тех, кого называли «культурниками». Щаранского арестовали при разгроме Хельсинкской группы, в которой он принимал активное участие, вслед за Юрием Орловым и Александром Гинзбургом. Меня арестовали в том же марте 1977 года. Ему вменили измену Родине, а мне «всего лишь» тунеядство. Я всегда оправдываюсь (статья то «паразитическая»), что поэт Бродский тоже был тунеядцем. Щаранский был под следствием в тюрьме КГБ «Лефортово» больше года, а я только три месяца — в уголовной «Матросской тишине». Суд приговорил меня к 2 годам ссылки, однако с учетом времени, проведенного под арестом, ее фактический срок сократился, и примерно через год я вернулся в Москву. Не успел я пробыть в Москве и пары месяцев, как уже опять был в «Матросской тишине», но теперь по другой, менее позорной, статье — «чердачной» (статья за нарушение паспортного режима — прим. ред.). После первого срока меня лишили московской прописки, и я был обязан жить на т.н. 101 километре. Это был июнь 1978 года. Меня привезли в суд знакомиться с делом, и я наблюдал, как шла подготовка к суду над Щаранским. Двор буквально обносили забором — явно ожидали, что на суд придет много людей. Пока я знакомился с документами, меня все время подгоняли: «Быстрей-быстрей!» По той лихорадочной обстановке я понял, что здесь будут судить Щаранского, что и случилось. В том суде у реки Яуза часто судили диссидентов, удобно — с одной стороны река, а с другой стороны двор, который легко огородить.
Во время суда Щаранского произошло интересное пересечение наших тюремных путей, о чем он рассказывает в своей книге.
ЕП: Сейчас вы общаетесь со Щаранским?
ИБ: Иногда общаюсь. Эпизодически. Израильская жизнь совсем другая. Кто-то больше преуспел, кто-то меньше. На свадьбу своей дочери он пригласил очень много своих бывших коллег-активистов.
ЕП: А еврейские диссиденты, живущие в Израиле, встречаются?
ИБ: Нечасто. Но есть один день в году, когда мы, соратники по общей борьбе, встречаемся. Для этого есть специальное место в Израиле, история которого такова. Под Москвой есть такое место — Овражки. Это 30 километров от Москвы по Казанской дороге. В конце 70-х годов отказники стали практиковать пикники на лоне природы, в подмосковном лесу. По воскресеньям там собирались сотни людей. Потом стали приходить и не только отказники — московские евреи с семьями, детьми. Всем было интересно и весело. Отмечались еврейские праздники, и тогда собирались до 1000 и больше человек. КГБ не остался в стороне, летом 1981 года Юрий Андропов сообщал в Политбюро, что «под видом культурного отдыха» в районе деревни Овражки Люберецкого района «еврейские националисты» организуют массовые «антисоветские сборища», занимаются сионистской пропагандой. Тогда же «сионистские сборища» в лесу прикрыли. Но лет через десять, когда большинство активистов были уже в Израиле, главный инициатор тех подмосковных Овражек Натан (Толя) Шварцман добился, чтобы в одном из небольших израильских лесов выделили поляну и поставили там камень-монумент в память о борьбе советских евреев. Место назвали «Израильские Овражки», и ежегодно в праздник Суккот здесь собираются все, кто хочет встретить друзей и товарищей по борьбе. Собираются сотни людей — радостные, трогательные встречи… К сожалению, каждый год пополняется мартиролог.
ЕП: В СССР была возможность соблюдать кашрут?
ИБ: В Москве было соблюдать очень трудно. Хотя были крутые религиозные ортодоксы, которые в субботу не ездили, кашрут соблюдали. Часто их деятельность была поэтому ограничена кругом таких же религиозных людей. В тюрьме, лагере, где я провел немало лет, ни о каком кашруте речи быть не могло. Советская тюрьма для религиозных евреев не приспособлена. Но вот известный узник Сиона Йосеф Менделевич, участник «самолетного дела», провел в тюрьме и лагере более 11 лет. О нем я слышал от своих сокамерников, что Йосеф — человек религиозный — соблюдал субботу. В тюрьме и лагере! В советских местах лишения свободы все обязаны работать и делать норму. Невыход на работу был очень серьезным проступком. Менделевич, как рассказывали, выходил на работу, но не работал… и сдавал норму. Он в течении пяти рабочих дней делал шестую, дополнительную, норму, которая и была его субботней нормой. Это героический человек! Но, возвращаясь к вашему вопросу о кашруте, я припоминаю, что меня иногда спрашивают, зная, что я часто объявлял голодовки, какое у меня было самое сильное впечатление от еды? Знаете, голодаешь 10 дней, 15 дней. Через несколько дней тебя начинают насильно кормить, вливая в тебя через трубку какой-то раствор. И так продолжается еще несколько недель. Анатолий Марченко 4 месяца голодал. И умер уже тогда, когда снял голодовку. Но приходит момент, когда ты прекращаешь голодовку. И тебе приносят Еду. Хотя это всего лишь какое-то варево, но когда ты начинаешь его есть, то чувствуешь невероятное блаженство. Во время голодовки ты очень слабеешь, а тут ты чувствуешь, что в тебя вливается жизнь. И вот это ощущение еды — оно самое сильное, ни с каким рестораном не сравнимое.
ЕП: Сколько раз вы объявляли голодовку?
ИБ: Много. Даже трудно сосчитать. Поводов было больше, чем достаточно.
ЕП: А что это были за поводы?
ИБ: Разные. Забрали книжку, которую я с трудом отстоял. Это могла быть Тора или учебник иврита. Эти книжки мне были наиболее дороги в тюрьме. Лишали переписки — объявлялась голодовка.
ЕП: Анатолий Марченко, о котором вы упомянули, в то же время, что и вы, сидел в Чистопольской тюрьме. Вы согласны с мнением, что смерть Марченко сыграла решающую роль в освобождении политзаключенных в СССР?
ИБ: При всем моем уважении к Марченко и к его заслугам в правозащитном движении, сказать, что именно его смерть в тюрьме сыграла чуть ли не революционную роль в этом событии, на мой взгляд, было бы неверно. Все развитие событий тогда, в 1986 году, вело к радикальным переменам в стране. Трагическая смерть знаменитого на весь мир политического заключенного, который умер после четырехмесячной голодовки, несомненно, повлияла на ситуацию. Но решающим обстоятельством стала экономика — СССР не мог выбраться из трясины застоя, страна была на грани голода. У руководства не было иного выхода, кроме как налаживание отношений с США и западным миром. В этих условиях, думается, важнейшим фактором в освобождении политзаключенных стало давление на Горбачева со стороны Рейгана, который требовал этого как реального доказательства серьезности провозглашенной политики перестройки.
ЕП: А с Сахаровым вы были знакомы?
ИБ: Да, но не так близко. Бывал раза два или три у него дома на улице Чкалова, мы иногда оказывались вместе на тех или иных диссидентских событиях, в частности на судах во время процессов диссидентов. Там собиралось много единомышленников и друзей подсудимых, и Сахаров там тоже почти всегда был. К репутации великого диссидента могу добавить еще и такое наблюдение. В бытность свою «уголовником» (на двух моих первых судах меня судили по уголовным статьям) мои сокамерники часто интересовались у меня, «политика» (они-то понимали, что я никакой не тунеядец), знаю ли я Сахарова. Мой утвердительный ответ вызывал всегда заметное уважение. Любили в народе академика-правозащитника! Андрей Дмитриевич в своих выступлениях в защиту советских политзаключенных уделял много внимания еврейским узникам. Это касалось и моего дела 1982 года, ставшего наглядным примером политики культурного геноцида евреев в СССР.
ЕП: Отказников было много, но вы из тех, кто пожертвовал ради борьбы за выезд свободой. У вас есть ощущение, что те, кто сейчас переехал в Израиль, живут там во многом благодаря вашим усилиям?
ИБ: Если говорить о борьбе сотен и тысяч активистов, которые добивались для советских евреев права на переезд в Израиль, то у меня нет сомнения, что благодаря их усилиям миллион бывших евреев СССР живут в Израиле, а другие живут как свободные люди и евреи в России и других странах Но я не уверен, что все, кто обрел эту свободу, имеют такое ощущение. Но после всего это не так уж и важно.
Елена Поляковская