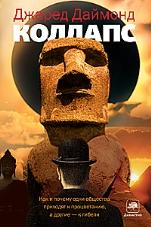Почему некоторые общества принимают решения, ведущие их к гибели
Вопрос о том, почему цивилизации в конце концов угасали вследствие собственных непродуманных решений, ставит в тупик не только моих студентов, но также профессиональных историков и археологов. В качестве примера могу назвать хотя бы “Коллапс высокоорганизованных обществ” — наверное, самую известную книгу археолога Джозефа Тэйнтера о погибших цивилизациях. Рассуждая о возможных причинах их упадка, Тэйнтер считает наименее вероятной истощение природных ресурсов: “Очень трудно строить предположения о том, что сообщества спокойно взирали на надвигающийся упадок, не предпринимая никаких мер. Развитые общества характеризуются централизованным принятием решений, интенсивными информационными потоками, координированными действиями составляющих эти общества частей, эффективным управлением и возможностью мобилизовать ресурсы. Этого вполне достаточно, чтобы успешно противостоять флуктуациям и нежелательным отклонениям в обеспечении собственной жизнедеятельности. С той административной системой и возможностью привлекать людские и материальные ресурсы, которые есть у развитых обществ, противостояние враждебным проявлениям окружающей среды, пожалуй, единственное, что получается у них лучше всего. Странно, что они должны погибнуть, столкнувшись именно с теми условиями, приспособиться к которым вполне технически готовы… Если верхушке общества становится ясно, что ресурсы истощаются, вполне логично предположить, что будут предприняты шаги, направленные на исправление ситуации. Противоположное предположение — мол, перед лицом опасности общество предпочтет бездействие — ничем не подкреплено, и нами справедливо не рассматривается”.
Тэйнтер приходит к выводу, что развитые сообщества едва ли позволят себе погибнуть из-за неспособности обеспечить себя природными ресурсами. Тем не менее все обсуждаемые в данной книге эпизоды показывают, что такое происходит постоянно. Мои студенты, как и Джозеф Тэйнтер, столкнулись с интересным, но непростым явлением, когда ошибки в принятии решений совершают отдельные общественные группы. С одной стороны, эти ошибки связаны с неправильными решениями представителей этих групп — ведь каждый из них либо неудачно вступал в брак, либо делал невыгодные инвестиции, неправильно выбирал себе профессию, становился банкротом и т. п. С другой стороны, группа могла принять неверное решение по иным причинам: например, из-за конфликта интересов или изменения поведения ее представителей. В общем, понятно, что разобраться сложно и едва ли здесь удастся дать единый ответ на все “почему”.
Подойдем с другой стороны. Я хочу предложить набор факторов, обуславливавших принятие неверного решения той или иной общественной группой. Я разделю эти факторы на четыре категории. Во-первых, группа может оказаться неспособной предвидеть проблему до ее появления. Во-вторых, когда проблема все-таки возникла, группа может оказаться неспособной ее разглядеть. Затем, если проблема все-таки выявлена, группа может оказаться неспособной ее решить. Наконец, даже если группа попытается решить проблему, она может потерпеть неудачу. Подобное обсуждение причин неудач и социальных крахов может испортить настроение, но у него есть и обратная, приятная сторона: удачные решения. Возможно, если мы поймем, почему группы часто принимают неверные решения, то сможем использовать эти знания, чтобы научиться принимать верные решения.
Сначала остановимся на том утверждении, что общественные группы могут совершать роковые для себя шаги в силу своей неспособности предвидеть возникновение проблемы. Происходит это по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что у этих групп отсутствует опыт решения таких проблем.
Вот хорошая иллюстрация. Завезя из Великобритании в Австралию в начале XIX в. лис и кроликов, колонисты обеспечили себе крупные неприятности. Сегодня это наиболее вопиющий пример внедрения в экосистему вредных интродуцентов. Трагизм ситуации усугубляется тем, что эти животные завозились намеренно, они вовсе не появились случайно, как это часто бывает с опасными растениями, прорастающими на новой почве из завезенных в импортном сене зерен. Лисы истребляют многие виды прежних обитателей Австралии, у которых отсутствует эволюционный опыт защиты от них. Кролики потребляют значительное количество растительного корма, предназначенного для овец и крупного скота, вдобавок тесня аборигенных травоядных млекопитающих. Кроме того, роя норы, они разрушают почву.
С высоты нашего опыта упорство колонистов, распространявших в Австралии животных, неестественных для местной среды обитания, кажется нам глупым. Нанесенный в результате урон и затраты, связанные с попытками уменьшить поголовье лис и кроликов, исчисляются миллиардами долларов. Сегодня, имея в багаже немало подобных примеров, мы понимаем, что ввоз животных часто оборачивается неожиданными бедами. Поэтому, когда вы приезжаете в Австралию или США, один из первых вопросов, которые вам задают при пересечении границы, — не везете ли вы с собой какие-либо растения, семена или животных. Мы более или менее научились предвидеть потенциальную угрозу, исходящую от ввоза животных, нехарактерных для данной экосистемы. Но даже профессиональным экологам пока сложно предсказать, какие новые растения приживутся в данной местности, какие нанесут экосистеме вред и почему одни и те же растения, прижившись в одной местности, не приживаются в другой. Поэтому не стоит удивляться, что австралийцы XIX в., не обладая печальным опытом XX в., не сумели распознать угрозу, исходившую от кроликов и лис.
В данной книге приводятся и другие примеры, когда общество не сумело предвидеть проблему из-за отсутствия опыта ее решения. Например, гренландские скандинавы, нещадно истребляя моржей с целью продажи моржовой кости в Европу, едва ли могли предвидеть, что рыцари-крестоносцы ликвидируют рынок сбыта моржовой кости, открыв европейцам доступ к азиатской и африканской слоновой кости. Не могли они предвидеть и того, что увеличение ледового покрова затруднит плавание к берегам Европы. Другой пример: не изучавшие почвоведения индейцы майя — жители города Копана — не могли предвидеть, что вырубка лесов на склонах холмов спровоцирует эрозию почвы и сползание ее в долины.
Но даже опыт не гарантирует предвидение проблемы, если это давний опыт. Такая ситуация характерна для слаборазвитых обществ, чьи возможности сохранять достоверные сведения о событиях отдаленного прошлого уступают соответствующим возможностям цивилизованных обществ в силу известных ограничений, существующих при передаче информации устно и отсутствующих при передаче информации письменно. В главе 4 приводится пример: в XII в. Из-за сильной засухи вымерли индейцы анасази, жившие в районе каньона Чако. Засуху они переживали и раньше, но отсутствие письменности, следовательно и письменных свидетельств, помешало им предсказать катастрофу. По той же причине в IX в. жертвами засухи стали майя с равнин, несмотря на то что заселяемая ими территория подвергалась засухам в прошлом (см. главу 5). Майя, хотя и обладали письменностью, записывали в основном сведения о делах своих правителей и астрономических явлениях, а не наблюдения за погодой. Так что засуха в III в. не стала для них предвестницей засухи в IX в.
Наличие в современных обществах письменных свидетельств о тех или иных событиях, помимо политических изменений и космических явлениях, еще не означает, что мы опираемся на зафиксированный в них опыт. Многое забываем и мы. После нефтяного кризиса 1973 г. в Персидском заливе мы, американцы, ощутили на себе дефицит топлива и на год-два отказались от эксплуатации неэкономичных автомобилей. Затем мы забыли о том, что было, и теперь разъезжаем на внедорожниках. А ведь о событиях 1973 г. написано множество книг. Когда в 1950-х гг. жесточайшая засуха постигла город Тусон в штате Аризона, его встревоженные жители всерьез намеревались урезать потребление пресной воды. Однако скоро они забыли об экономии: им нужно было поливать траву на новых площадках для гольфа и орошать сады.
Еще одной причиной того, почему общество может оказаться неспособным предвидеть надвигающийся кризис, является неверная аналогия. Оказываясь в новой для себя ситуации, мы пытаемся судить о ней исходя из своего прежнего опыта. Это помогает, если прежняя и нынешняя ситуации действительно аналогичны. Однако, если это не так, заблуждение может привести к катастрофе. В 870 г. в Исландию перебрались викинги из Норвегии и Британии. Почва в Норвегии и Британии глинистая, сформированная ледниками, и даже если уничтожить там всю растительность, почва едва ли подвергнется ветровой эрозии — она слишком тяжелая. Когда викинги увидели в Исландии знакомые породы деревьев, росшие в Норвегии и Британии, они ошибочно решили, что и природные условия в Исландии таковы же (см. главу 6). Однако исландская почва была сформирована не ледниками, а ветрами, несшими пепел вулканического происхождения. И когда викинги вырубили в Исландии весь лес, чтобы освободить место под пастбища, почву стал уносить ветер.
Приведу еще один трагический пример неверной аналогии. После бойни 1914–18 гг. Франция решила застраховаться от вторжений Германии. Военное командование французов посчитало, что методы следующей войны будут сходны с методами Первой мировой, когда на французско-германском фронте в течение четырех лет шли позиционные бои. В то время можно было успешно обороняться только силами пехоты, засевшей в укрепленных окопах. При наступлении главная роль также отводилась пехоте, а только что изобретенные танки применялись в исключительных случаях, только для поддержки живой силы. Поэтому, чтобы противостоять Германии в будущем, французы построили вдоль северо-восточной границы страны технически совершенную и очень дорогую фортификационную систему — линию Мажино. Германское командование, однако, учло опыт Первой мировой войны и разработало новую стратегию. Главная роль в наступлении теперь отводилась не пехоте, а бронетанковым силам. Когда началась Вторая мировая война, линия Мажино была прорвана всего за шесть недель, и даже лесистая местность, казавшаяся непреодолимым препятствием для танков, не стала немцам помехой. Французские генералы повторили распространенную ошибку: они приготовились к прошлой, а не к будущей войне.
Джаред Даймонд