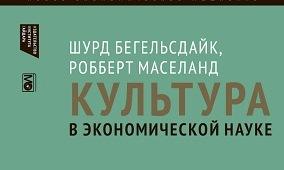Экономика и культура
Хотя это важное изменение, основная структура модели поведения осталась прежней. Эта структура показана на рис. 4.1. В этой модели культура может выступать экзогенным фактором тремя способами. Во-первых, она может выступать как предпочтения, точнее, источник предпочтений. Во-вторых, она может выступать как источник редкости, то есть ограничения. В-третьих, она может выступать как причина отклонений от модели: культура объясняет те результаты, которые наступили вопреки предположениям экономической модели. Каждая из этих трех возможностей описана разными авторами.
Культура как источник предпочтений
Неоклассическая экономическая наука, изучая выбор с точки зрения предпочтений индивида, всегда откровенно оставляла вопрос формирования предпочтений за пределами своего анализа. Вместо этого она занималась выбором индивидов в условиях заданных предпочтений. В основе такого подхода лежит мнение о том, что нравственность и рациональность существуют отдельно друг от друга; это же мнение мы видим у Вебера, писавшего об «иррациональной нравственности» мира. Основной аргумент здесь заключается в том, что рациональная общественная наука может анализировать и обсуждать вопросы разума, но невозможно рационально оценить нравственность. Вебер считал, что рациональных этических систем не бывает; рационализация, интересовавшая его прежде всего, происходила на основании нравственности, которая сама по себе иррациональна (Giddens 1974: 44). Рациональность — это процесс эффективного сопоставления целей и средств и/или принятия решений о том, как действовать, основываясь на эффективности в отношении определенных ценностей. В обоих случаях цели и ценности выступают объектом рационализации, при этом сами они не подвергаются рациональной оценке.
Аналогичным образом неоклассическая теория концентрировалась на рациональности выбора индивида на основании «нравственных» предпочтений, от суждений о которых она воздерживалась. Она интересовалась только эффективностью этого выбора, а формирование предпочтений оставляла самому индивиду. Это, конечно, была также и политическая позиция: вместо того чтобы делать откровенно политические заявления о том, какие предпочтения должны быть у индивидов, неоклассицизм придерживался либерального принципа свободного волеизъявления. В этом он отличался от, например, марксистской экономической теории, которая утверждает, что материальная сфера определяет убеждения и предпочтения людей, подразумевая, что таким образом ими можно управлять (и злоупотреблять). Формирование ценностей в неоклассической теории было чем-то исключительно экзогенным, чем-то, что происходило до экономической модели. Поскольку предпочтения и ценности выступают экзогенными факторами в экономической модели поведения, они становятся удобным каналом для проникновения в эту модель культуры. В этом случае культура выступает в модели «основой для предпочтений (целей) и убеждений индивида» (Chai 1997: 45). Таким образом, установив, что культура—это источник предпочтений, мы можем существенным образом обогатить формальные неоклассические модели.
Именно таким путем — во всяком случае, неявно и ненапрямую — пошли многие недавние эмпирические исследования культуры и экономики, основанные на крупных массивах данных, собранных в разных странах; среди таких работ Барро и Макклири (Barro and McCleary 2003), Гранато, Инглхарт и Лебланг (Granato, Inglehart and Leblang 1996), Хэмпден-Тернер и Тромпенаарс (Hampden-Turner and Trompenaars 1993), Макклири и Барро (McCleary and Barro 2006) и Шейн (Shane 1993). В них обычно утверждается, что, например, если люди не склонны к риску, то для своих инвестиций они выберут понижающие риск социальные схемы, такие как банковский кредит, а люди, любящие риск, выберут игру на бирже. Если голландцы любят отдыхать больше, чем американцы, то голландцы будут работать меньше, даже с учетом разницы в реальной заработной плате и налогах. Если мы сможем установить различия в предпочтениях у людей разных культур, то мы должны, используя экономическую теорию, суметь предсказывать экономические результаты и объяснять определенные различия между странами. Хотя подобные исследования благоприятствуют нахождению ответов на многие конкретные вопросы (например, почему в обществе А лучше развиты фондовые биржи), применение этого подхода в конечном счете ограничено.
Возможно, основной недостаток использования предпочтений как способа учета культуры в экономической модели заключается в том, что при этом экономическая модель не развивается и не изменяется, а лишь дополняется. В то время как неоклассическая модель выбора и поведения описывает только абстрактные поведенческие структуры, подход к культуре как источнику предпочтений превращает абстрактные предсказания модели в конкретные, состоятельные решения. В некотором смысле этот под ход аналогичен анализу рынка: мы можем предсказать, какой «продукт» люди выберут, основываясь на тех их предпочтениях, что мы изучили (см., напр.: de Mooij and Hofstede (2002), где культурные различия используются, чтобы объяснить разные паттерны потребления в разных странах). С точки зрения теории, однако, этот поход вряд ли поможет раздвинуть границы наших знаний; его основное назначение — обогатить существующую теоретическую модель и ответить на конкретные эмпирические вопросы. Чтобы включить в экономическую модель культуру, используя предпочтения, нужно уточнить, какие предпочтения считать культурными, и выработать теорию о том, как они соотносятся с другими типами предпочтений. Не все предпочтения носят культурный характер; в противном случае неясно, в чем была бы дополнительная ценность разговоров о культуре.
Один интуитивно убедительный способ отличить культурные предпочтения от прочих — согласиться, что культура производится в ходе коллективных социальных процессов, в то время как прочие предпочтения являются экзогенной данностью на уровне индивида. Однако если культурные предпочтения являются результатом социальных процессов, то их формирование должно поддаваться анализу. С этой точки зрения, только когда мы разработаем подробную теорию о природе, появлении и развитии культурных предпочтений, добавление в экономическую модель культуры как источника предпочтений сможет существенно расширить наше понимание экономики и принятия экономических решений. К сожалению, в этом направлении пока появилось мало теоретических разработок (см. более подробный рассказ в главе 5). Важными исключениями являются труды Мэри Дуглас и ее последователей, которые мы обсуждали в предыдущей главе, а также анализ формирования предпочтений Аарона Вилдавски (Wildavsky 1987). Эти авторы утверждают, что предпочтения порождаются общественными отношениями и отражают устройство общества. Другое частичное исключение — Табеллини (Tabellini 2008a), который развивает модель эволюции предпочтений на основании выбора родителями оптимальных ценностей, которые они хотят передать своим детям. Во многом как и Вилдавски, Табеллини заключает, что разницу в ценностях в конечном итоге определяют разные институты и разные технологии. Например, существование хорошо работающих правовых институтов делает передачу обобщенных ценностей оптимальной, поскольку более отдаленные трансакции, которые поощряют такие ценности, будут успешно обеспечиваться этими институтами.
Нужно отметить, что, когда мы используем функционалистские объяснения вроде этих в дополнение к подходу к культуре как источнику предпочтений, то получаем двустороннюю причинно-следственную связь. Если предпочтения порождаются тем, как мы организуем общество, а социальная организация, в свою очередь, определяется нашими предпочтениями, то значит, общество движется по пути самовоспроизведения. Другого взгляда придерживается Марк Кэссон (см., напр.: Casson 1993; Casson and Godley 2000), который утверждает, что культуру (в экономической науке) можно рассматривать как коллективную субъективность. Более конкретно, культура обозначает две вещи: субъективные предпочтения и субъективные убеждения о вероятностях, свойственные коллективу. Первое согласуется с пониманием культуры как предпочтений; второе относится к взгляду на культуру как на фактор, определяющий средства при выборе.
Однако Кэссон (Casson 1993) идет дальше всех остальных авторов в этой категории: он пытается разработать теорию происхождения того типа коллективных субъективностей, который он называет культурой. Он утверждает, что если рассматривать предпочтения и убеждения как гибкие, а не фиксированные величины, то коллективная субъективность развивается благодаря господству лидеров, которые навязывают всем остальным свои предпочтения и убеждения при помощи силы и манипуляций. Хотя у этого предположения много недоработок (например, почему культуре очевидно свойственна стабильность и закрытость, которая вряд ли характерна для предпочтений, навязанных лидером), попытка вывести спор о культуре и экономической науке в более конструктивную область при помощи теории о культурном развитии (а также внимания к роли власти) — это важный шаг вперед. Анализируя формирование культурных предпочтений с политико-экономической точки зрения, Кэссон (Casson 1993) удаляется от подхода, который мы назвали «культура и экономика», приближаясь к подходу «культура как экономика» в духе Беккера. Экономический анализ обеспечивает финальный ответ на все вопросы, потому что культура становится чем-то, что может объяснить экономическая теория.
Культура как источник ограничений
Альтернативный способ включить культуру в экономическую модель поведения, если не использовать экзогенные предпочтения, — это представить культуру как источник ограничений в модели рационального выбора. Именно так культура рассматривается в традиции новой институциональной экономики (НИЭ), которая считает культуру помехой для институционального развития. Базовая идея НИЭ заключается в том, что у индивидов нет совершенной информации; они вынуждены мириться с неопределенностью. Чтобы справиться с этой неопределенностью (тем, что Норт в «Понимании процессов экономических изменений» называет «неэргодичным миром»), изобретаются институты: социальные правила и нормы поведения, которые делают социальную реальность более предсказуемой. Направляя человеческую деятельность в фиксированные паттерны и тем самым сокращая количество возможных линий поведения, которые индивиду необходимо учитывать, институты снижают неопределенность и связанные с ней издержки. Однако хотя, с одной стороны, институты снижают неопределенность относительно результатов и поведения других людей, с другой — они также «определяют и ограничивают набор альтернатив, которые имеются у каждого человека» (North 1990: 4; Норт 1997: 18).
Иными словами, институты — «правила игры», как их определяет Норт (ibid.: 4; там же: 19) — выступают как ограничители выбора индивидов. В результате, поскольку из-за институтов некоторые вещи не подлежат обсуждению, институты становятся причиной несовершенства рынков, неэффективности и негибкости. Хотя институты необходимы для облегчения сотрудничества и взаимодействия, у них есть свои трансакционные издержки. Степень этих издержек, однако, зависит от качества институтов. По мнению Норта, здесь и нужно искать ответ на вопрос о глобальной экономической дивергенции: экономическая дивергенция — это последствие того, что у разных стран институты разного качества. Подобный аргумент логически подводит к вопросу о том, почему же дивергенция продолжает существовать. Если общества знают, что их институты относительно неэффективны по сравнению с институтами других, почему они не отбросят свои собственные институты и не скопируют институты более «экономически успешных» стран?
По мнению новых институционалистов, институты выступают искусственно созданными ограничителями, которые являются более или менее рациональными (если не сознательно созданными) ответами на проблемы неопределенности и нехватки информации. Однако если институты искусственно создаются людьми, они также должны в принципе быть изменяемыми, так что можно ожидать наступления институциональной (а следовательно, косвенным образом, и экономической) конвергенции. Говоря более фундаментально, если мы рассматриваем институты как нечто адаптивное, их функция постоянного ограничителя становится проблематичной. Институты могут ограничивать только тогда, когда обязывают людей, а не когда являются условными соглашениями, которые можно произвольно адаптировать. Именно здесь мы обращаемся к культуре.
В НИЭ есть два тесно связанных объяснения тому факту, что институты нельзя свободно адаптировать и что их нельзя переделывать, пользуясь примером более успешных стран. Первое объяснение заключается в том, что институциональное развитие само ограничивается историей, так что институциональная эволюция зависима от пути. Выбор, сделанный в прошлом, определяет возможности институционального развития в настоящем, так что институты нельзя внезапно переделать. Второе объяснение гласит, что институтам свойственна укорененность; в данном случае это означает, что существуют неформальные ограничители, такие как нормы, ценности и убеждения, которые удерживают внутри себя институты и ограничивают степень их изменения (North 1990: 83; Норт 1997: 118). Изменение формальных правил, которое не укладывается в рамки неформальных институтов общества, вряд ли будет эффективным, поскольку чтобы формальные правила были эффективны, люди должны верить в их справедливость, иначе обеспечение их выполнения обходится слишком дорого (North 1992: 478; Норт 1993: 307–319). Стабильность, таким образом, «обеспечивается сложным набором ограничений, которые включают формальные правила, связанные друг с другом иерархическими зависимостями, где изменение каждого уровня иерархии требует больших затрат, чем изменение предыдущего уровня» (North 1990: 83; Норт 1997: 108).
Таким образом, даже революции и отдельные изменения часто демонстрируют преемственность, несмотря на то что на первый взгляд кажутся не связанными между собой. Причина этого в том, что «формальные правила меняются, а неформальные ограничения — нет» (North 1990: 91; Норт 1997: 118). Иными словами, культура выступает как ограничитель институциональной эволюции. Другие представители школы нового институционализма, такие как Уильямсон и Лал, расширили идею культурных ограничений. И Уильямсон (Williamson 2000), и Лал (Lal 1998; Лал 2007) изображают экономику как систему, состоящую из нескольких уровней: от уровня конкретной аллокации ресурсов до уровня законодательства, затем культуры, затем эволюционных биологических ограничений и материальных природных ограничений. Каждый более высокий уровень задает границы адаптации для уровня ниже, поскольку более высокие уровни обыкновенно меняются более медленно. В версии Уильямсона предлагается даже примерная частота изменений (табл. 4.2).
Во все этих версиях культура добавляется как последний источник ограничений. Именно потому, что институты можно изменять в очень ограниченной степени, они и могут служить институтами и направлять поведение людей в более предсказуемые схемы. В конечном итоге причина того, что институты можно менять только в ограниченной степени, заключается в том, что они расположены в иерархическом порядке, на вершине которого находится культура. Культура по такой логике изменяется очень медленно, и более того, не по сознательно задуманному плану (Roland 2004). Таким образом, культура может служить последним источником ограничений в модели.
Во все этих версиях культура добавляется как последний источник ограничений. Именно потому, что институты можно изменять в очень ограниченной степени, они и могут служить институтами и направлять поведение людей в более предсказуемые схемы. В конечном итоге причина того, что институты можно менять только в ограниченной степени, заключается в том, что они расположены в иерархическом порядке, на вершине которого находится культура. Культура по такой логике изменяется очень медленно, и более того, не по сознательно задуманному плану (Roland 2004). Таким образом, культура может служить последним источником ограничений в модели.
Хотя добавление культуры в новую институциональную модель экономики — многообещающее начинание, оно оставляет без ответа многие из самых интересных вопросов. Как и при подходе к культуре как к источнику предпочтений, здесь не хватает содержательной теории о том, что такое культура и как она развивается. К чести авторов-институционалистов многие из них это признавали. Норт, например, утверждает, что «культурно-эволюционная теория пока переживает самый ранний период становления. Для анализа изменений конкретных неформальных ограничений ее ценность еще невелика» (North 1990: 87; Норт 1997: 113). Уильямсон (Williamson 2000) призывает проводить больше исследований на уровне укорененности; об этом же пишут экономические социологи Смелсер и Сведберг (Smelser and Swedberg 1994: 18). Если бы мы стали оценивать подход НИЭ к культуре, то нас, вероятно, волновало бы не то, дает он нам ценную информацию о роли культуры в экономике сегодня, а то, можем ли мы обоснованно ожидать, что он будет давать нам такую информацию в будущем.
В этом отношении есть две преграды, которые исследователям необходимо преодолеть. Во-первых, нужно отметить, что идея культуры как источника ограничений зависит от понимания эволюции культуры как непреднамеренного, дискретного процесса. Если бы культура поддавалась осознанному, рациональному проектированию, она бы не служила источником ограничений, потому что ее можно было бы менять по желанию тех акторов, которых она ограничивает. Культура, иными словами, развивается, следуя механизмам и процессам, неизвестным экономическим акторам; они не могут увидеть или предсказать воздействие своей деятельности на культурную обстановку вокруг. Однако если культурная эволюция — это процесс, который не может быть полностью известен экономическим акторам, то по логике вещей ограничены и те знания, которые могут собрать о нем экономисты. Получается, что идея культуры как источника ограничений зависит от понимания культурной эволюции как черного ящика, не поддающегося сознательному проектированию. Модель делает разработку содержательной теории культуры и культурной эволюции проблематичной.
В сущности, главное содержательное заявление о культурной эволюции при таком ходе мысли заключается в том, что культура развивается медленно и дискретно. Однако именно здесь подход к культуре как ограничению ступает на тонкий лед. Вспомним из прошлой главы, что современная антропология призывает смотреть на культуру как на нечто динамичное и формирующееся постоянно, а не как на статичный набор традиций. Было доказано, что культурные изменения возможны и даже происходят повсеместно. Более того, постколониальные авторы утверждают, что значительная часть того, что мы сегодня рассматриваем как статичное культурное наследие менее развитых стран, нередко ведет начало от колониальной политики. Новая институциональная экономика, напротив (когда обращается к теме культуры), склонна подходить к национальной культуре как к статичной или, во всяком случае, очень медленно адаптирующейся данности. Аргументов в защиту этого предположения обычно не дается. Уильямсон (Williamson 2000) не объясняет, откуда берутся различия в скорости адаптации или как строится его временной график изменений.
Более того, Лал (Lal 1998; Лал 2007), хотя и повторяет значительную часть аргументации Уильямсона, приходит к совершенно другим временным рамкам. По его мнению, силы, приводящие к рыночному равновесию, адаптируются постоянно; при этом уравновешивающие их силы материальных убеждений действуют на протяжении жизни одного поколения, а более глубоко укоренившиеся космологические верования так устойчивы, что на их изменение уходит как минимум два поколения. Опять же, автор не предлагает никаких аргументов, кроме интуитивной привлекательности предложенных временных рамок. Во-вторых, если мы считаем культуру источником ограничений институционального развития, перед нами встает вопрос о том, почему мы не работаем с институтами напрямую. Эта проблема обостряется нехваткой содержательной теории и определений культуры (см. главу 1).
Весьма показательно здесь то, как описывает культуру Норт. Культура — передача от одного поколения к другому факторов, влияющих на поведение (North 1990: 37; Норт 1997: 57) — выступает источником ограничивающих факторов, но не анализируется и даже не имеет прямого определения. Культура рассматривается как некий черный ящик, который ограничивает институциональные изменения. Однако если мы не готовы дать культуре определение и предложить теорию культуры вне ее воздействия на институты, то, ссылаясь на нее, мы лишь сложным образом предполагаем, что институты могут изменяться только поступательно. Коротко говоря, роль, которая отводится культуре в новой институциональной экономике, на сегодняшний день одновременно крайне фундаментальна и крайне маргинальна. Культура—необходимое условие для того, чтобы теория работала (во всяком случае, частично), но помимо этого ей уделяется мало внимания. Теоретически новая институциональная экономика еще не развилась в теорию о культуре и ее эволюции. Вследствие этого существует опасность того, что культура служит в основном временным решением для сохранения функциональности модели выбора в условиях ограничений. Чтобы убедительно включить культуру в экономическую теорию в качестве источника ограничений, нужно провести дополнительную теоретическую работу.