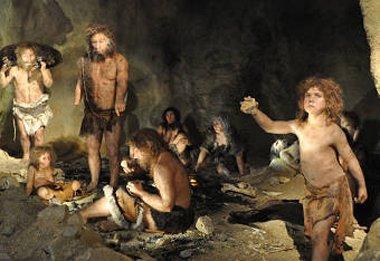Пересекли ли денисовцы линию Уоллеса?
(Замечу по случаю, что даже члены Нобелевского комитета, с их удивительной иногда слепотой, вчитавшись в этот список научных достижений, должны были бы понять, что в лице Пеэбо и его коллег перед ними достойные кандидаты на Нобелевскую премию, открытия которых уже вошли в историю науки и перевернули прежние представления об истории человека. Но они до сих пор не поняли.)
Вернемся к денисовцам. В этих палеоантропологических открытиях последних лет они занимают особое место. О неандертальцах наука знала многое и раньше, хотя в последние годы к этому знанию добавилась такая лавина новых археологических и генетических фактов, что сегодня следует со дня на день ожидать появления какой-нибудь толстенной книги, которая нарисует коллективный портрет неандертальцев в свете всех этих новых открытий и которая устареет раньше, чем выйдет, в силу открытий новейших. Но с денисовцами дело обстоит иначе. Они – сплошная загадка. В самом деле, смотрите. Археология говорит нам, что 41 тысячу лет назад и какое-то время до того эти люди жили на Алтае. Нигде в другом месте материальные следы их существования пока не обнаружены. Но генетика говорит нам, что примерно 40-50 тысяч лет назад денисовцы должны были жить также в Новой Гвинее и Австралии, потому что у тамошних туземцев есть генетические следы встречи с ними. Между тем Алтайские горы и Новую Гвинею разделяют тысячи километров. Как объяснить почти одновременное пребывание денисовцев и там, и там? Напрашивается мысль, что они жили тогда на всей территории от Алтая до Новой Гвинеи. Но почему в таком случае смешение их генов с генами современных людей произошло только в Новой Гвинее и Австралии, а не, скажем, на том же Алтае или в промежуточных местах?
Другая загадка: генетика говорит нам, что люди, жившие 400 тысяч лет назад в районе пещеры Сима де лос Уэсос, получили от кого-то денисовские гены. Кем бы ни был этот кто-то, он должен был контактировать с живыми денисовцами. Значит, 400 тысяч лет назад, а скорее даже раньше, живые денисовцы существовали и в этих краях. (Трудно представить себе, что какой-то неутомимый древний ходок, получив денисовские гены на Алтае, прошагал с ними до Испании; да и были ли 400 тысяч лет назад денисовцы на Алтае?) Куда же они потом делись?
Есть одна гипотеза, которая может одним махом объяснить все эти факты. Она основана на некоторых дополнительных фактах, обнаруженных группой Пеэбо при детальном изучении ДНК нескольких других косточек, найденных чуть позже знаменитого мизинца в той же Денисовской пещере. Изучение этих косточек показало, что в свое время генетическое разнообразие денисовцев было больше, чем разнообразие неандертальцев, и отражало намного больший географический размах их обитания. Как выразились сами исследователи, разные группы денисовцев генетически отличались тогда не меньше, чем современные люди, живущие на разных континентах. В таком случае, говорят некоторые специалисты (например, американский антрополог Стрингер), могло быть так, что в свое время (скажем, 400 тысяч лет назад и больше) ранние денисовцы действительно господствовали на огромной территории от Испании и Франции до Восточной Сибири и даже Китая. Но затем какие-то изменения (может быть, появление в Европе и Передней Сибири неандертальцев) вынудили их постепенно отступать все дальше и дальше на юго-восток. В прежних местах их обитания остались лишь отдельные немногочисленные группки – как, например, на Алтае. А под конец, ко времени появления на исторической сцене племен гомо сапиенс, последние остатки денисовцев отступили под напором холодов в самые дальние, теплые убежища на островах Юго-Восточной Азии, в Новой Гвинее и Австралии, где их и встретили наши предки.
Замечу, что это не единственное возможное объяснение. С некоторой натяжкой можно предположить, что древние предки современных носителей денисовских генов, живущих в Новой Гвинее и т. п., «подхватили» эти гены где-нибудь севернее, продвигаясь по Юго-Восточной Азии, а затем понесли их с собой дальше, в Новую Гвинею и Австралию. В таком случае можно нарисовать другой сценарий, в котором сами денисовцы не дошли до этих мест, а вымерли где-то по дороге.
Какая из этих двух гипотез верна? Этот вопрос можно сформулировать и иначе (как его сформулировал вышеупомянутый Стрингер): пересекли денисовцы линию Уоллеса или не пересекли?
Линия Уоллеса – это воображаемая линия, которая отделяет континентальную Юго-Восточную Азию от Новой Гвинеи, Филиппин, тихоокеанских островов и Австралии. Она названа в честь знаменитого исследователя и эволюциониста XIX века Альфреда Уоллеса. Но это не просто географическая условность. У линии Уоллеса есть важное биогеографическое содержание. Западнее нее простирается мир животных плацентарных, восточнее – мир сумчатых. Некогда, во времена денисовцев, неандертальцев и первых сапиенсов, в этих местах в периоды снижения уровня Мирового океана (а такие периоды то и дело повторялись) здесь обнажались два огромных континента – Сунда на западе и Сахул на востоке (Сахул объединял Новую Гвинею с Австралией в единую сушу, а Сунда объединяла Малайзию, Яву, Борнео и часть Суматры в один материк). Западная граница Сахула (во времена самой большой его величины) называется линией Лидеккера. Между ней и линией Уоллеса всегда, при самом низком уровне Мирового океана, оставался широкий Индонезийский пролив, по которому шло мощное океанское течение. Это течение, понятно, издревле мешало переходу живых существ из Сунды в Сахул и обратно, и, видимо, такой помехой объясняется возникшее уже очень давно разделение плацентарных (западнее линии Уоллеса) и сумчатых (восточнее линии Лидеккера) существ. (Интересно что на небольших островах в Индонезийском проливе, где проходила пограничная зона и где случайно могли задержаться как те, так и другие существа, по сей день сохранилось самое большое в мире биологическое разнообразие).
Достоверно известны только два вида животных, которые пересекли линию Уоллеса с запада на восток и достигли Новой Гвинеи и Австралии: это грызуны и гомо сапиенсы. Есть также двое «подозреваемых». Один – это загадочный «человек с острова Флорес». Этот островок лежит как раз в проливе между линиями Уоллеса и Лидеккера, и в одной из его пещер несколько лет назад были обнаружены кости и черепа древних людей карликовых размеров. Большинство ученых сегодня считают, что это одна из очень ранних разновидностей гоминидов, достигшая острова около миллиона лет назад. Второй такой «подозреваемый» - еще более загадочное и пока что плохо изученное существо из пещеры Каллао на Филиппинах. Ни одно из этих существ пока не обнаружило какого-либо сходства с денисовцами. Поэтому вопрос о том, пересекли денисовцы эту линию Уоллеса или их гены перенесли туда сапиенсы, остается открытым.
Открытым остается также вопрос, почему нигде в континентальной Юго-Восточной Азии – в Индии, Малайзии и Китае – не обнаруживаются (во всяком случае пока) генетические следы денисовцев. Крис Стрингер, исходя из своей гипотезы «исторического отступления денисовцев» с северо-запада на юго-восток, считает, что денисовцы (в небольшом числе) перешли Индонезийский пролив сами, с помощью каких-то примитивных плавательных средств, может быть, даже не намеренно, а занесенные течениями, а на континенте генетические следы их пребывания были стерты пришедшими по их стопам сапиенсами. Это увлекательный сценарий, но он все еще ждет строгого научного подтверждения или опровержения.
**************************************************************************************
Как клетка сохраняет свою индивидуальность?
Прежде чем понять ответ, иногда нужно сначала понять вопрос. Именно такова ситуация с недавним открытием группы шведских и финских исследователей во главе с профессором Тайпале. Эти исследователи нашли ответ на давний вопрос биологии: как клетка сохраняет свою индивидуальность? Но прежде чем объяснить, каков же этот ответ, нужно сначала понять, что такое клеточная индивидуальность. В чем она выражается, эта индивидуальность? Что, собственно, отличает одну клетку от другой? Не внешний же вид, в самом деле, и не характер, верно? Нет, конечно. Индивидуальность клетки выражается в ее специализации, то есть в том, что именно она предназначена делать в организме и чем отличается от клеток всех иных видов. Скажем, мышечная клетка специализирована сокращаться, нервная клетка призвана проводить через себя электрический сигнал, а клетка эндокринной системы предназначена производить и выделять гормоны. И так далее. И если вдуматься, это действительно можно назвать индивидуальностью. Потому что во всем остальном, пусть на первый взгляд и не менее важном, большинство клеток в организме не так уж отличаются друг от друга. Все они рождаются, делятся и умирают в общем-то одинаково. Поэтому правильно сказал один биолог: «Не рождение или смерть, а выбор специализации – вот важнейший шаг в жизни любой клетки».
Теперь мы приближаемся к пониманию вопроса в заголовке. Как мы знаем, клетки обладают способностью делиться, порождая две новые, дочерние клетки. В растущем зародыше практически все клетки раз за разом претерпевают такое деление, и именно это приводит к росту и развитию всех органов будущего тела. Во взрослом организме делятся уже не все клетки. Например, нервные и мышечные практически не обновляются за всю нашу жизнь, они только постепенно умирают (что выражается в старении). Но многие клетки сохраняют способность делиться по потребности, когда получают к этому определенный стимул. Таковы, например, некоторые клетки печени, почек, эндокринной системы. Наконец, есть в организме и такие клетки, которые делятся практически непрерывно, – это клетки волос, кожи, слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (это миллиарды делений в день). Для всех этих миллиардов делящихся клеток, как во взрослом, так и в растущем организме, неизбежно возникает вопрос: каким образом дочерние клетки сохраняют специализацию клетки-матери?
В этом виде наш вопрос снова требует некоторого разъяснения. Понятно, что индивидуальность той или иной клетки определяют ее гены. А как мы знаем, эти гены передаются от клетки-матери к ее обеим дочерям. Казалось бы, все в порядке – передача генов как раз и придает дочерним клеткам индивидуальность, специализацию матери. Но на самом деле это мнимое объяснение. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, что специализация клетки выражается в той работе, которую она выполняет в организме. Но ведь гены непосредственно никакой работы не выполняют.
Гены – это те участки ДНК, на которых записаны программы для построения белков и других молекул, необходимых клетке для жизнедеятельности. Эти молекулы, и в первую очередь именно белки, - вот кто выполняет всю работу в клетке. Это они режут, дробят, приносят, вытаскивают, преобразуют, сокращают, узнают, проводят и вообще делают «все, что понадобится впредь». И поскольку каждый вид клеток занимается своим делом, то и набор белков (и прочих трудящихся молекул) у каждого вида клеток свой. В принципе, зная этот набор, биологи могут сегодня сказать (а если сегодня еще не всегда могут, то смогут завтра), какая перед ними клетка. Именно этот набор и определяет индивидуальность клетки.
Как же получается, что у разных клеток имеется разный набор белков? Ведь все белки, как мы только что сказали, образуются согласно программам генов, а набор генов во всех клетках нашего тела один и тот же. Откуда же взяться различию?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно напомнить, как конкретно образуются те же белковые и прочие рабочие молекулы клетки. Представим это на пальцах. Глянем поближе на наши молекулы ДНК. Все они обычно плотно упакованы и вдобавок завернуты, иначе не поместились бы внутри клеточного ядра, но все-таки на каждой можно различить определенные рабочие участки, те самые гены, о которых мы говорили (ученые опознают эти рабочие участки по определенным химическим признакам, которые имеются в их начале и на конце). Приглядевшись, мы увидим, что вдоль некоторых из этих участков ползают некие сложные «машины» - этакий молекулярный комплекс, который считывает с гена заложенную в нем программу построения того или иного белка (или иной молекулы). Каждая клетка, как мы уже сказали, – это своя программа, свой белок. Так вот, если мы сравним теперь две клетки разного вида, то увидим, что в одной «машина считывания» имеется на одних генах, а в другой – на других. И понятно поэтому, что в одной клетке производится один набор белков, а в другой – другой. Вот каким сложным образом рождается та или иная специализация.
Но я понимаю, что тут не избежать следующего вопроса: а кто, собственно, указывает этим «машинам считывания», что именно читать в данной клетке, а что читать в другой. Кто регулирует выбор генов для чтения, то есть фактически специализацию? Тут и думать нечего: конечно, белки, кто же еще в клетке все делает! И действительно, в клетке каждого определенного вида (то есть каждой определенной специализации) есть набор специальных регулировочных белков, которые указывают «машинам для считывания», какие гены в этой клетке читать, а какие не читать. Вот они-то в конечном счете определяют индивидуальность клетки. И поскольку они делают это посредством регулировки чтения гена, а это чтение по-научному называется транскрипцией, то эти регулировочные белки называются транскрипционными факторами, или ТФ. Работают они, грубо говоря, так: каждый из набора ТФ данной клетки имеет свой подопечный ген; он садится на молекулу ДНК в начале этого гена или близко к началу, но всегда в таком месте, откуда он может эффективно помешать «считывающей машине» работать (например, замедлив или вообще заблокировав ее продвижение по гену) или, наоборот, поощрить ее работу, облегчив или ускорив ее продвижение.
Не будем вдаваться в очередной, уже почти философский вопрос, кто регулирует сами эти регуляторы, потому что такого рода вопросы можно задавать до бесконечности. Скажем просто: в ходе развития и усложнения живых клеток в них сложились такие гены, такие «машины считывания» и такие транскрипционные факторы, что в структуре каждого из них уже заранее заложено знание, что и когда он призван делать, и умение это сделать. Эти знания и умения в каждом из них записаны химически: когда то-то встанет так-то, то вот это притянется к этому, и в результате то пойдет туда и там появится такая-то возможность соединиться с тем-то - без всякой инструкции и без всякого высшего разума.
А теперь вернемся к вопросу, поставленному в заголовке. Вопрос этот как раз относится к такого рода знанию. Дело в том, что при делении клетки уже на первом этапе все белки ТФ, как показали специальные исследования, удаляются с тех мест, где они сидели на ДНК возле своих генов. И потому, чтобы сохранить материнскую индивидуальность, все эти ТФ, оказавшись в дочерних клетках, должны немедленно и без малейшей путаницы заново найти эти свои места на генах и усесться на них. Но как они узнают эти места? Конечно, это знание в них заложено изначально. Но если молекулы ТФ будут искать свои места методом тыка, методом проб и ошибок, им потребуется слишком много времени. Кто же им помогает в таком поиске? Вот истинное (молекулярное) содержание вопроса: «Как клетка сохраняет свою индивидуальность?»
Как видите, нам понадобилось изрядное время, чтобы понять этот вопрос. Зато теперь мы сможем понять ответ на него, полученный группой профессора Тайпале. И для этого нам понадобится намного меньше времени. Если не входить в сложные детали, то ответ, найденный этими исследователями, гласит: помогает когезин. Уже в 1997 году было обнаружено, что этот особый белковый комплекс, имеющий вид кольца, удерживает молекулы ДНК в процессе деления клетки, помогая этим молекулам в нужном порядке разойтись по дочерним клеткам. Последующие исследования когезина показали, что он играет важную роль в ремонте поврежденной ДНК (удерживая поврежденную цепь от полного распада до прихода ремонтных белков). В августе 2013 года группа австрийского ученого Петерса обнаружила, что когезин помогает также удерживать плотную упаковку молекул (образуя подобие жесткого скелета вокруг нее; авторы, между прочим, назвали этот скелет изящным итальянским словом vermiccellina, в котором нетрудно опознать знакомое «вермишелина»). А в декабре 2013 года группа Тайпале добавила к этому перечню еще одну функцию когезина. Тончайшие эксперименты позволили выявить, что в процессе деления клетки когезиновые комплексы охватывают молекулы ДНК своими кольцами не произвольным образом, а точно в тех местах, где после деления должны усесться молекулы ТФ. После деления транскрипционные факторы проскальзывают внутрь этих колец и прикрепляются там к своим генам. Иными словами, эти кольца играют роль указателей, позволяющих транскрипционным факторам быстро и точно восстановить свое расположение на генах и тем самым возродить ту специализацию, или индивидуальность, которую имела материнская клетка.
Только не спрашивайте меня, каким образом когезиновые кольца узнают, где именно им охватывать ДНК. Я лично подозреваю, что эти места имеют какую-то особую притягательность для когезина, что они как-то химически помечены, но если говорить серьезно, то этот очередной вопрос, разумеется, открывает поле для новых исследований.
Рафаил Нудельман
"Окна", 7.8.2014