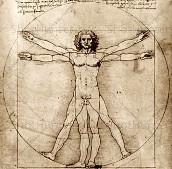Почему у пространства три измерения?
Всё для нас!
Некоторые учёные придерживаются антропного принципа: измерений ровно столько, сколько нужно для того, чтобы мы могли задавать подобные вопросы. Другие же думают, что ответ лежит в области физики, просто мы пока ещё не нашли его. Сегодня исследователи пытаются построить теорию квантовой гравитации, которая могла бы объединить общую теорию относительности с квантовой механикой, описывающей все, кроме силы тяготения. Это помогло бы нам понять, что происходило в первые мгновения жизни Вселенной, когда она представляла собой крошечный сгусток квантового хаоса. Возможно, трёхмерность окружающего мира, как и одномерность времени, зародилась ещё раньше. «Сегодня принято считать, что пространство-время имеет начало», – говорит Гэри Гиббонс из Кембриджского университета (Великобритания).
Проверить данную гипотезу крайне сложно. В огромных ускорителях, таких как Большой адронный коллайдер лаборатории ЦЕРН близ Женевы (Швейцария), учёные сталкивают высокоэнергетические частицы, пытаясь понять, как зарождалась наша Вселенная, однако до сих пор ни один эксперимент так и не приблизил нас к квантовой гравитации.
Ситуация осложняется и тем, что большинство самых многообещающих современных теорий работает в каких угодно пространствах, кроме трёхмерного. Так, теория струн требует введения ещё как минимум шести измерений. Другая концепция, так называемая каузальная динамическая триангуляция, описывает квантовую систему из двухмерных элементов, которая развивается до уровня макроскопического 3D-пространства. В теории петлевой квантовой гравитации пространственно-временной континуум не однороден, а зернист или пенообразен, если рассматривать его под очень большим увеличением. «И это принимается как данность, – говорит один из основоположников данного подхода Карло Ровелли из Университета Экс-Марсель (Франция). – Наука в настоящий момент не располагает инструментарием, который позволил бы выяснить, почему измерений именно три».
Иной точки зрения придерживается Маркус Мюллер из Института Периметр в Ватерлоо (Онтарио, Канада). По его мнению, мы вполне способны разгадать эту тайну, и ответ следует искать в уже имеющейся теории.
Квантовая механика, безусловно, описывает физический мир с потрясающей точностью, однако она часто противоречит нашим привычным представлениям о реальности. К примеру, она позволяет объектам находиться одновременно в двух местах или в двух состояниях и отрицает наличие причинно-следственных связей. Обычно физики просто игнорируют подобные вещи или находят им весьма причудливые объяснения – от странного влияния экспериментаторов на результаты эксперимента до существования множества раздваивающихся вселенных.
Мюллер нашел способ обойти эти, по его выражению, «философские ловушки»: он предложил вывести основы квантовой механики из того, что подсказывает нам практический опыт. Более века назад мы точно так же постигали суть законов термодинамики, наблюдая за тем, что может и чего не может происходить в природе. Так, невозможно сделать вечный двигатель, который производил бы энергию из ничего. «Следует хорошенько подумать о том, что подразумевают под собой формулы, и о том, что осуществимо в действительности», – говорит учёный.
Вместе со своим коллегой Луисом Масанесом из Бристольского университета (Великобритания) Мюллер рассматривал ситуацию, в которой отправитель и получатель обмениваются данными, закодированными в квантовых состояниях. Этот принцип лежит в основе реально существующей сверхсекретной шифровальной методики под названием «квантовая криптография». В ходе многочисленных экспериментов было установлено, что между информацией, имеющейся у отправителя и у получателя, есть связь, выходящая за грань того, что мы привыкли считать возможным. Измените квантовое состояние фотонов на одном конце, и те же самые изменения мгновенно произойдут на другом.
Исследователи начали с нескольких «разумных» предположений о том, как функционирует материальный мир, окружающий адресата и отправителя. Допустим, он имеет определённое количество измерений, включая время, а также некий канал передачи информации. Кроме того, хотя бы некоторые из физических процессов во Вселенной бессистемны, хотя учёные и не поясняют, до какой степени. Отсюда выходит стройное математическое доказательство с неожиданными следствиями. Квантовая теория – не только единственная теория, верно предсказывающая соотношение произвольности и упорядоченности, наблюдаемое в природе. Она ещё и работает исключительно в том случае, если пространство обладает тремя измерениями (New Journal of Physics, т. 15, с. 053040).
Мы здесь, потому что мы здесь
Жизнь в пространстве с числом измерений меньше трёх была бы совершенно другой. Наш мозг состоит из нейронов, сообщающихся друг с другом в 3D-формате; наш пищеварительный тракт представляет собой набор цилиндрических трубок; даже молекула ДНК имеет вид трёхмерной спирали. Двухмерная жизнь была бы слишком ограниченной для того, чтобы позволить нам обсуждать саму проблему многомерности пространства.
Против большего количества измерений тоже есть свои аргументы. В том мире, где живём мы с вами, сила гравитации изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния между объектами. В 2D-вселенной она бы изменялась пропорционально самому расстоянию, а в 4D-мире – его кубу. В обоих случаях орбиты небесных тел были бы нестабильными: банальным ударом астероида планету могло бы отшвырнуть в дальний космос или по направлению к родительской звезде. То же самое происходило бы и на уровне электронов и атомов. Таким образом, количество измерений – физическая величина, которая, подобно электромагнитным и гравитационным константам, определяет возможность существования высокоразвитой жизни. «Мне кажется, это единственное разумное объяснение», – говорит Леонард Сасскинд из Стэнфордского университета в Калифорнии (США). Атомов и молекул не было бы в том виде, в каком мы их знаем, если бы пространство имело больше или меньше измерений.
Многих специалистов подобные объяснения не удовлетворяют. «Это абсолютная бессмыслица, – считает Карло Ровелли из Университета Экс-Марсель (Франция). – Если бы мы жили в шестимерном мире, нашлось бы множество аргументов в пользу того, что шесть – единственно возможное количество». Критики также отмечают, что, в отличие от природных констант, степень многомерности пространства представляет собой совершенное целое число. Трудно представить, что такая величина могла стать результатом какого-то хаотичного космического процесса
Истоки реальности
Возможно, это всего лишь математическое совпадение. Квантовые состояния описываются не одномерными вещественными числами, лежащими на одной прямой, а двухмерными комплексными, представляющими собой точки на плоскости. Совокупность этих чисел, организованная таким образом, что получается трёхмерная сфера, дает полное описание объектов, способных пребывать одновременно в двух состояниях (например, фотонов).
Мюллер же считает, что данное совпадение не случайно. По его мнению, между геометрией пространства и степенью вероятности, заложенной в квантовой теории, существует неразрывная связь. Если так, то корни теории относительности и квантовой механики уходят в тот способ, каким осуществляется информационный обмен во Вселенной, что дает нам подсказку, где следует искать ключ к объединенной теории. «Это наводит нас на мысль о том, что важной частью квантовой гравитации является такое понятие, как “информация”», – говорит учёный.
Аналогичные аргументы приводят австрийские учёные Боривой Дакич и Каслав Брукнер. Они доказывают, что квантово-механические законы могут быть справедливы только в трехмерном мире – по крайней мере в таком, как наш, где микроскопические объекты взаимодействуют друг с другом попарно. Если бы одновременно три и более квантовые системы могли оказывать друг на друга взаимное влияние, тогда вполне возможным было бы существование вселенных с большим числом измерений (arxiv.org/abs/1307.3984).
Однако Дордже Броди из Брунельского университета в Лондоне (Великобритания) считает, что к подобным аргументам следует относиться с осторожностью. «Всё начинается с утверждений, вроде бы не подлежащих сомнению, но затем они начинают обрастать невесть откуда взявшимися дополнительными условиями, – отмечает он. – Всё-таки должен быть момент, когда кролик, так сказать, попадает в шляпу». Учёный полагает, что все наши выводы в данном случае целиком и полностью зависят от используемого нами математического языка. К примеру, в некоторых репрезентациях квантовой механики используются не двухмерные комплексные числа, а четырехмерные (кватернионы) и восьмимерные (октонионы). В прошлом году Броди и его коллега Эва-Мария Грефе из Имперского колледжа Лондона доказали, что в кватернионной формулировке количество измерений естественный образом увеличивается до пяти, а в октонионной – до девяти (Physical Review D, т. 84, с. 125016).
Итак, мы снова остались ни с чем? Не совсем. Дело в том, что такие репрезентации предсказывают немного другие по сравнению с традиционной теорией результаты экспериментов, в том числе – иные степени корреляции между частицами. Если квантовые взаимодействия действительно служат источником многомерности пространства, это указывает нам новые пути, которыми мы можем прийти к ответу, не тратясь на установки вроде БАК, говорит Броди.
Еще один специалист из Имперского колледжа, Терри Рудольф, считает, что это предоставляет нам широкое поле для исследований, но предостерегает от слепого следования модным тенденциям. «Вспомните, как в свое время всё на свете пытались описывать с позиций теории хаоса», – говорит он. Учёный склоняется к мысли, что степень многомерности пространства – понятие слишком человеческое, для того чтобы его можно было объяснить. Такой же точки зрения придерживался известный философ XVIII века Иммануил Кант, который считал пространство не более чем субъективной формой чувственности, единственный смысл которой состоит в том, что она позволяет нам устанавливать взаимосвязи между объектами. «Возможно, трёхмерность – всего лишь переменная величина, которую наши предки-обезьяны сочли полезной при поиске бананов», – предполагает Рудольф.
Ньютон и Эйнштейн, оба настаивавшие на реальности пространства, скорее всего, одобрили бы современные попытки объяснить такую его базовую характеристику, как количество измерений. Тем не менее есть вероятность, что в конечном итоге мы будем вынуждены принять её как данность, говорит философ Крейг Каллендер из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США): «Трёхмерность может остаться, так сказать, необъясненным объяснителем».
Мэттью Чалмерс
Статья опубликована в журнале New Scientist, ноябрь 2013