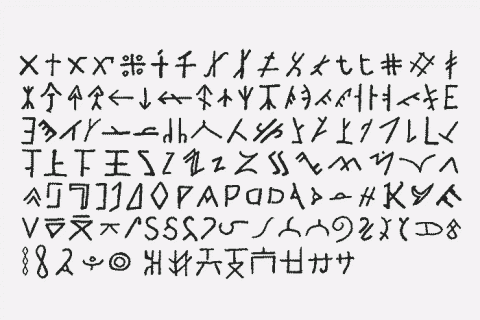Как умирают и возрождаются языки
Многие языки гибли во время имперских завоеваний: либо уничтожались вместе с носителями, либо ассимилировались. Причем нередко принудительно — как, например, в Австралии, где в течение 50 лет правительство изымало детей из семей аборигенов и передавало в государственные или религиозные учреждения, где под предлогом «правильной» социализации детям запрещали говорить на родных языках.
Нередко срабатывает экономический фактор: язык предков незачем учить, если на нем не говорят ни в школе, ни в государственных учреждениях, ни на улицах. Например, у жителей острова Мэн, которые в XIX веке массово переходили на английский, была в ходу поговорка: «Говоря по-мэнски, не заработаешь ни гроша». В такой ситуации язык исчезает за 3–4 поколения. Уже в 1900 году меньше 10% мэнцев говорили на родном языке, а в 2009 году он был объявлен мертвым.
Наконец, языки исчезают, когда исчезает реальность, которую они описывают. Так было с сойотским языком (сойоты — коренной малочисленный народ, населяющий Окинский район Республики Бурятия): перейдя на бурятский еще в XVIII, они сохранили сойотскую животноводческую лексику, но и она была утеряна при ликвидации оленеводства в регионе.
Кому нужен мертвый язык
Главные двигатели возрождения затерявшихся в небытии языков — лингвисты с горящими глазами. Но даже восстановленный язык останется мертвым, если на нем не будут говорить люди — а для этого нужен мотив посерьезнее, чем завороженность фонетикой и морфологией.
Например, желание народа обозначить себя на политической карте, как это было с возрождением иврита. Создание государства Израиль сопровождалось множеством конфликтов, и гражданам нового государства было необходимо не только дополнительно подчеркнуть древность своих притязаний на территорию, но и объединить евреев, живущих по всему миру и разговаривающих на разных языках.
Или стремление восстановить историческую справедливость, как в случае с теми же сойотами: в начале XX века они пережили сначала подъем интереса к собственной культуре (тогда ее активно изучали этнографы и лингвисты), а затем крушение надежд на ее возрождение, когда представители Сойотского туземного родового совета были репрессированы. Однако с начала 1990-х сойоты восстанавливают традиционные формы хозяйства, добились статуса малого коренного народа — и возрождают свой язык.
Когда мотивации не хватает, энтузиастам приходится заниматься пропагандой. Например, мэнцы сами были главным препятствием к возрождению своего языка: он ассоциировался у них с бедностью, стыдом, местечковостью, и они не горели желанием его изучать. Переломить ситуацию удалось интернету: энтузиасты-фольклористы пишут на мэнском песни, ведут каналы на YouTube и подкасты. Ивриту удалось добиться признания не в последнюю очередь благодаря тому, что в 1913 году он стал официальным языком Техниона (Израильского технологического института), хотя изначально преподавание велось на немецком.
Нечто похожее происходит с языком айнов — автохтонного населения Японии. Из 25 тысяч айнов только 400 человек являются его носителями в настоящее время — остальные предпочитают японский. Чтобы сделать айнский языком общения, ассоциация, занимающаяся его возрождением, обучает ему детей в 14 школах.
Почти как настоящий
Главный энтузиаст возрождения иврита Элиэзер Бен-Йехуда был настроен столь серьезно, что решил сделать его первым языком своего ребенка (за что знакомые считали его сумасшедшим). Однако оказалось, что язык древних религиозных текстов не может в полной мере описать реальность, в которой существовал ребенок XIX века, так что Бен-Йехуде пришлось придумывать для него новые слова. Например, «буба» (кукла), «офанаим» (велосипед), «глида» (мороженое) — всего около 200 слов, больше половины которых прижились в языке. Как рассказывает профессор Аделаидского университета Гилад Цукерман, современный иврит — это гибридный язык, созданный на основе иврита и идиша с влиянием ряда других языков — таких, как русский, польский, немецкий, арабский и английский.
Похожая проблема возникла при работе над языком каурна (один из языков австралийских аборигенов). Обычно, если в языке традиционного общества не хватает слов для обозначения современных явлений, эти слова заимствуются. Для каурна источником заимствований мог бы стать английский, но аборигены не хотели пользоваться словами из языка, которому их обучали насильно, поэтому для них ученые занялись созданием новых слов. Один из них, лингвист Роб Эймери, рассказал об основных способах в своей книге. Семантическое расширение — присвоение уже существующему слову дополнительных коннотаций: например, слово kaaru («кровь») используют для обозначения вина, словом warri («ветер») обозначают кондиционер. Соединение слов: например, слово «компьютер» (mukarntu) получилось из слов «мозг» (mukamuka) и «молния» (karntu). Обратное словообразование: слово kapi («сигареты», «табак») было извлечено из kapinthi («тошнота»). Другие варианты — использование суффиксов, звукоподражание и т. п.
Нарушить молчание
Работая над возрождением иврита, Бен-Йехуда встал перед проблемой произношения. Из возможных вариантов — ашкеназского, сефардского или йеменского — он выбрал сефардское, так как, по его мнению, оно более точно отражало иврит библейских времен. Ему было из чего выбирать — но так бывает не всегда.
Иногда энтузиастам языкового возрождения везет и в их распоряжении оказываются аудиозаписи речи последних носителей, как это было с мэнским языком: речь его последнего носителя, умершего в 1974 году, была записана в 1964 году лингвистом Брайаном Стоуэллом. Но это большая удача. Обычно произношение восстанавливается на основе сравнения с языками родственных групп и сохранившимся описанием транскрипции — как в случае с сойотским, который похож на чуть лучше сохранившийся тофаларский.
Но что делать, если язык изолированный и к тому же бесписьменный? Как, например, айнский — разные исследователи записывали его кириллицей, японской катаканой и латиницей. В этом случае ученым приходится выкручиваться, собирая следы исчезнувшего языка в воспоминаниях путешественников, языках соседей и записях миссионеров.
Парадокс: несмотря на то что именно миссионеры нередко играли важную роль в уничтожении культурного разнообразия, сегодня Библия и другие религиозные тексты нередко становятся подспорьем в деле воскрешения языков. Так было, например, с языком каурна. Его первый словарь, составленный в 1826 году зоологом Жозефом Полем Гемаром, содержал множество ошибок: в поисках аналога слова «Бог» Гемар получил от аборигенов слово «человек», вместо существительного «женщина» — глагол «видеть», вместо наречия «много» — числительное «четыре». Другие исследователи, составляя словари, ограничивались областью своих научных изысканий. На помощь пришли тексты, созданные миссионерами, — составленная в 1840 году грамматика, переведенные на каурна христианские гимны и проповеди.
Пригодились и письма, написанные на каурна с использованием латиницы. Письменность — важный фактор и сохранения, и возрождения языков. Например, тот самый сын Элиэзера Бен-Йехуды, Итамар Бен-Ави, предлагал перевести иврит на латинскую графику, считая, что это сделает его проще для освоения. Впрочем, иногда письменность играет с языком злую шутку, как это случилось с языками народов СССР, пережившими в первой половине XX века волну латинизации, а затем волну кириллизации. Последняя упростила для их носителей изучение русского языка, но сделала для многих недоступными тексты, опубликованные ранее с использованием латиницы.
Это не единственные примеры возрождения погибших языков. Смерть считается необратимым процессом — но, как видно, для вдохновленных людей даже гибель языка не является поводом окончательно с ним распрощаться.
Жанна Пояркова