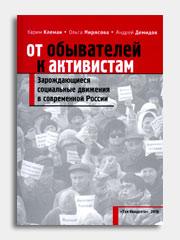От обывателей к активистам: зарождающиеся социальные движения в современной России
«Беда нашего народа в том, что все ждут, что кто-то придет и поведет людей за собой. Мы решили никого не ждать»
Жилищный активист, предприниматель, Астрахань
«Мы вывесили у себя в отделе, где я работаю, слова Лютера Кинга, который был застрелен, американский борец за права негров. Он сказал, что если до 40 лет ты ни разу не возвысил голос против беззакония, то можно считать, что ты уже духовно погиб»
Лидер свободного профсоюза Воронежского авиационного завода
«Когда мы начали это дело с профсоюзом, это было как когда пробуждаешься от спячки»
Профсоюзный активист завода «Форд», Всеволожск
«Иногда есть такой страх: сейчас либо я делаю еще один шаг, либо не делаю. И оттого делаешь ли этот шаг или нет, меняется взгляд на себя. Сделаешь – гордишься собой. Не надо бояться. Если почувствуешь силу, значит, что-то тебе удастся сделать»
Профсоюзный активист АвтоВАЗа, Тольятти
Еще два года назад, если кто-то бы мне сказал, что я буду ложиться под бульдозеры, устраивать митинги, я бы смеялся. А теперь я уже не понимаю, как можно сидеть тихо дома, когда власть так поступает с нами. Это власть заставила нас, обывателей, стать борцами за справедливость»
Активист движения против «уплотнительной застройки», Москва
Приведенные цитаты – поэзия и лейтмотив героев нашей книги. В разных формах и с разными интонациями подобные слова повторяют люди, недавно вступившие на путь активного проявления своей гражданственности. Своей Человечности - с большой буквы. О них в основном и пойдет речь, об этих обывателях-героях.
Об обывателях-героях
Это был потрясающий опыт - встречаться с этими людьми, обычными людьми, которые вдруг вместо того, чтобы привычно терпеть, начали пытаться влиять на обстоятельства своей жизни, причем не только бытовые, что присуще многим волевым личностям, но стали акторами, людьми, активно формирующими вокруг себя новую социальную атмосферу. Эти люди не только изменили себя, но и открыли новый путь для тех, с кем они вместе действуют. Да, мы признаем: они восхищают и поражают наше воображение – ведь могли бы, как подавляющее большинство вокруг, сидеть перед телевизором и пить пиво, это намного проще и безопаснее. Но нет, идут же против течения, несмотря на все трудности и препятствия. Они стали нашими героями.
При этом это не литературные герои и не инопланетяне, а те, кто живет рядом с нами – наши (и ваши) соседи, коллеги, родственники. Возможно, мы их не замечаем, не понимаем, обходим стороной, когда они начинают «качать права», но они есть, живут обычной жизнью рядом с нами, просто действуют немного по-другому. Чтобы поближе с ними познакомиться, показать разнообразие, масштабы, привлекательность мира этих обывателей-активистов, мы приглашаем к путешествию по разным течениям и местам их деятельности.
Это не книга об активистах как таковых. «Профессиональные» активисты (для которых активизм – вся жизнь), конечно, тоже достойны восхищения своей убежденностью, энергией, самоотверженностью. Но они в любой стране мира составляют маленькую горстку людей. Иногда они всю жизнь тратят на продвижение своего идеала и реализацию какого-то проекта. Иногда они становятся искрой, из которой разгорается пламя. Но настоящая сила – это обычные люди, идущие плечом к плечу по пути социальных перемен. Своей сплоченностью и массовостью они могут творить чудеса, добиваться социальных изменений и реализовывать свои коллективные проекты.
Какова суть этих проектов – это отдельный вопрос, но, забегая вперед, скажем, что, если и есть отдельные человеконенавистнические проекты (фашистского или авторитарного типа), то они явно не составляют большинство. Обыватели-активисты разделяют прогрессивные и гуманистические ценности, где во главу угла ставится справедливость, равноправие, солидарность, самоорганизация и самоуправление
Возникает вопрос: разве есть место в России для таких людей? Разве вертикаль власти, «управляемая демократия», может допустить таких непокорных людей с такими неординарными взглядами и установками? Да, не спорим, активисты встречают некоторые препятствия, не в последнюю очередь чинимые властью, воображающей себя последним оплотом покоя обывателей перед лицом какого-нибудь «экстремистского» бунта пенсионеров. Но обыватели-активисты в целом неплохо справляются с этими препятствиями, продолжают свою деятельность, устанавливают связи друг с другом, создают сети активистских групп.
Гораздо сложнее справляться с враждебно настроенной окружающей средой, идти против течения, проявлять активистские установки, когда вокруг царствует культура обывательского типа, чей главный завет гласит – не высовывайся, не выделяйся! Спора нет, каждый живет, как хочет. И те, кто ведет разговоры на кухне и хорошо проводит время с друзьями, не менее достойные люди, тем более, что и сами активисты не пренебрегают этими приятными занятиями. Но дело пахнет керосином, когда обывательский стиль жизни становится нормой, отклонение от которой карается не только властью, но и общественным мнением. А часто бывает, что жена устраивает скандалы мужу, который «впустую» тратит время на всякие «бессмысленные общественные дела». Соседи злобно ругают старших по дому, которые проявляют необычно много инициативы. Прохожие крутят пальцем у виска при виде митингующих.
Мы надеемся, что наша книга внесет свою лепту в дело реабилитации и популяризации активистского образа жизни. Ведь мало кто осуждает предпринимателей (по крайней мере, мелких), хотя они тоже не отсиживаются дома и пытаются «выбиться в люди» не совсем традиционным в советско-российском обществе путем. Чем активисты хуже?
Активисты это обычные люди, которые просто занимаются в свободное от повседневной рутины время общественными или политическими делами. Это не сумасшедшие, не фанатики и не неудачники. Они не отказались от «счастья земного», не мстят никому за жизненные неудачи, а живут полноценной жизнью. Вполне могут быть одновременно активистом и заботливым родителем, любящим мужем, хорошим профессионалом и веселым собутыльником. Эти люди не лучше и не хуже других, но с развитым чувством собственного достоинства, с ярко выраженной гражданской позицией, не желающие вести «овощной» образ жизни.
«Даже среди овощей есть… Чипполино!» - это наш девиз в Институте «Коллективное Действие». И это не просто юмор или беспочвенная иллюзия. Весь наш опыт – и активистский, и исследовательский – показывает, что люди никогда и нигде не обречены оставаться безучастными зрителями своей судьбы и судьбы своего сообщества. Мы встретили огромное количество людей, которые никогда не собирались заниматься общественной деятельностью, тем более, не представляли себя организаторами и участниками акций протеста, но, тем не менее, стали активистами – при определенных обстоятельствах, в определенном контексте. В этот момент их жизнь буквально перевернулась – на долгий срок или временно. И, несмотря на все трудности и на тяжелое бремя, которое они взяли на себя, они испытывают немало удовольствия оттого, что открыли для себя новый мир, новые перспективы и возможности, оттого, что обнаружили в себе и других неожиданные способности, оттого, что стали «ненормальными обывателями».
О политике: «низовая» и «кабинетная»
Где политика в России? Где ее место? Умные эксперты изучают и комментируют каждый шаг Президента РФ. Еще более умные эксперты подробно нам объясняют соотношение сил среди кремлевских элит и различных экономических групп. Некоторые классические политологи еще анализируют политические партии и делают прогнозы относительно шансов на выборах тех или иных из них. Но разве ТАМ сосредоточена политика? Политика – это общее дело всех граждан, живущих на определенной территории. Она не сводится к борьбе за власть и противоборству разных кланов или политических группировок. Скептики скажут, что в этом классическом смысле слова политики в России вообще нет, да и мало где она есть в нашем постмодернистском мире, в котором каждый сам по себе, и большинство инфантильно делегирует власти управление общими делами.
Мы вынуждены разочаровать тех, кто так думает. Политика есть, и она даже расширяет свое пространство с каждым днем. Чем больше ее гонят из органов власти, тем больше она развивается вне официальных политических институтов.
Политика не только там, где ей приказали быть – в узких кругах избранных «экспертов» и «аналитиков», имеющих «доступ к телу». Люди все больше активизируются «снизу» и осваивают политические практики. Власть придержащие многие годы пытались убаюкать людей известными песнями о государственной заботе и политиках-профессионалах, но многие уже проснулись.
Политика, как мы ее понимаем, возрождается. Настоящая политика в широком смысле слова. Когда все большая часть населения чувствует себя причастной к влиянию на настоящее и будущее всех жителей страны. Эта книга тоже об этом - о низовой политике, которая рано или поздно изменит сложившиеся отношения господства-подчинения в российской общественно-политической системе.
Институт «Коллективное Действие» (ИКД): информационно-аналитическое агентство для активных людей
Несколько слов о коллективе авторов данной книги: кто мы такие и почему нам так интересна проблема обывателей, ставших активистами.
Начнем с того, что мы все работаем – в свободное от основной работы время – в Институте «Коллективное Действие»(www.ikd.ru). ИКД – это общественная организация, которую мы учредили в мае 2004 года, как раз тогда, когда стало понятно, что готовится очередная социальная реформа и масштабное наступление на социальные права и гарантии (в частности, монетизация льгот, но не только). Мы хотели давать максимально объективную информацию о содержании предстоящих реформ, инициировать широкую общественную дискуссию, способствовать организации сопротивления и самозащиты групп населения, затронутых этими реформами.
Наша главная цель – содействовать активизации людей в защиту своих прав. Инструментами активизации мы считаем, в частности, свободный доступ к разносторонней информации, общественные дискуссии, обмен опытом, установление горизонтальных связей между активистскими группами. Поэтому по мере наших (скромных) возможностей мы через сайт и иногда газеты и листовки даем информацию о готовящихся законопроектах, о проводимых самыми разными группами коллективных акциях, о накопившемся опыте решения определенной проблемы. Кроме того, мы стараемся адресно помогать становлению той или иной инициативной группы или движения, пропагандируя их, обеспечивая советами и контактами с более опытными товарищами. Но прежде всего мы пытаемся содействовать процессу консолидации движений: через обмен информацией и контактами, участие в организации конференций и форумов, координацию кампаний. В частности, мы в 2005 году стали полноценным членом коалиции Союз Координационных Советов России (СКС) и неформально выполняем для местных советов задачу технической и организационной координации.
Почему мы этим занимаемся? Не потому, что мечтаем о революции или кардинальном переустройстве общества (хотя некоторые наши сотрудники, не спорим, были бы не против такой перспективы), а потому, что не можем смотреть спокойно на то, что людей превратили в безмолвных рабов, лишенных права на собственное мнение и не умеющих отстаивать свои права. Нам отвратительно наблюдать, как нагло иногда властные структуры обходятся с людьми, и мы радуемся каждый раз, когда они не дают себя обмануть, организуют отпор, отстаивают свои права и свое достоинство. Нам хочется жить в обществе достойных людей и уважающих себя граждан. И мы убеждены, что путь лежит через коллективные действия и коллективную борьбу.
Кроме того, мы все - активисты с левыми взглядами и разделяем идеал об обществе, где нет отчуждения, нет эксплуатации, нет непреодолимого деления на подчиненных и управляющих. Мы отдаем себе отчет в том, что левого движения в России сейчас практически нет, оно находится еще только в зачаточном виде. Мы считаем, что левое движение не может развиться, если не будет сильных социальных движений. По нашему мнению, если правые либералы могут опереться исключительно на властные и бизнес структуры, левые демократы не могут обходиться без социальных движений, т.е. без людей, готовых и способных к коллективным действиям, самоуправлению и самоорганизации. Поэтому мы и занимаемся тем, что стараемся содействовать развитию гражданских инициатив и социальных движений.
Отметим, что в своей деятельности мы намеренно отходим от явных и узких политических и партийных тем. Мы считаем существующую политическую систему оторванной от реалий повседневной жизни и не берущей в расчет интересы простых людей. Кроме того, мы в целом не видим партий, готовых и способных установить равноправное сотрудничество с общественными движениями. Наконец, мы уверены, что есть больше политики в гражданских инициативах, коллективных действиях и социальных движениях, чем во всей официальной политической системе.
Поскольку последнее время ИКД поливают грязью политтехнологи и высокопоставленные депутаты и чиновники, мы уточняем, что у нас практически нет своего финансирования. У всех нас есть основное место работы, где мы и зарабатываем деньги для себя. Мы получили грант всего один раз (после этого иностранный фонд испугался нашей протестной деятельности). К счастью, время от времени нам помогают спонсоры из среды симпатизирующих политиков или бизнесменов. Но и эта помощь весьма скромна и совершенно недостаточна (даже при желании), чтобы «дестабилизировать политическую ситуацию в стране». (В этом публично в марте 2009 года обвинил ИКД депутат от Единой России Сергей Железняк, вследствие чего депутаты Госдумы на своем пленарном заседании приняли соответствующее протокольное поручение.) Больное воображение, оторванность от реальности или поиск «козла отпущения»? Мы не уверены в диагнозе, но этот случай наглядно демонстрирует отношение власти к протестным выступлениям граждан. По их мнению, люди - бараны (сами, без посредства «злонамеренных манипуляторов» в виде нас, они не способны к самостоятельному отстаиванию своих прав) и интересуют их только деньги (достаточно им заплатить, чтобы они тут же вышли на улицу или забастовали). Да и активисты вроде нас никак не могут работать за идею и на благо общества, они обязательно должны быть «финансируемы из-за рубежа» и хотеть распада страны. А что, если не мы действуем во вред стране, а эти сами «искатели экстремистов», которые потворствуют нарушениям социальных, трудовых и политических прав простых людей?
О коллективе авторов
Кто мы? Костяк ИКД на данный момент – это шесть человек, живущих в Москве, все одновременно активисты и специалисты по какому-то предмету общественных или гуманитарных наук. Кроме того, это десятки корреспондентов-активистов и просто заинтересованных пользователей, которые нам посылают информацию и участвуют в той или иной мере в нашей деятельности. Благодаря им и обширной сети контактов, мы функционируем и можем обеспечить оперативной и достоверной новостной информацией, а также другими ресурсами (информационными, методическими, организационными, аналитическими) активных граждан страны.
Сразу отметим, что все активисты и корреспонденты нашей сети, напрямую или косвенно, приняли участие в подготовке этой книги, которая является продуктом коллективного творчества. Поэтому используем случай поблагодарить всех, кто нам помог, а также всех героев книги – названных и анонимных.
На обложке книги стоят три фамилии – сотрудники и учредители ИКД. Каждый сам себя представит.
Карин Клеман.
Поскольку обо мне в «узких кругах широко известных людей» циркулирует множество легенд, я использую возможность рассказать о себе подробнее. Чего только обо мне не писали: шпион, посланец мирового троцкистского движения, агент антиглобалистского движения, а теперь еще миллиардер и важный «дестабилизатор» политической ситуации.
Формально я директор ИКД, поэтому несу ответственность за общую деятельность Института (все претензии ко мне, как говорится). С 2001 года по декабрь 2008 года я еще была научным сотрудником Института социологии Российской Академии Наук. Однако меня уволили. По слухам – за слишком «открытую и активную общественную деятельность» (формально мне просто отказали в продлении закончившегося контракта). Может быть, повлияло и то, что я гражданка Франции. Я сама себя считаю гражданином мира и чувствую себя больше дома в России, где я живу с 1994 года, чем во Франции. В России у меня муж (депутат Госдумы Олег Шеин), товарищи, друзья, увлекательная деятельность, была любимая работа, остались уважаемые и потрясающие коллеги. Никаких богатых родственников во Франции, никаких особенных связей с зарубежными меценатами у меня нет. В конце 2008 года на меня было совершено три нападения, которые оказались просто актами устрашения – почему-то кому-то понадобилось нейтрализовать меня, как будто без моей «значимой персоны» распадутся забастовочные и социальные движения (я весьма польщена таким высоким мнением обо мне, но, к счастью, оно не имеет никакого отношения к реальности).
Можно сказать, что я несу ответственность еще за содержание книги, поскольку «держала перо» в основном я (поэтому возможны и некоторые не очень «русские» выражения), и я проявила достаточно большой авторитаризм, чтобы сохранилась центральная логика повествования. Это проявляется в перекосе в оценках общего материала исследования в мою пользу, мои соавторы были ущемлены в праве влиять на основные тезисы. Я прошу прощения за это перед ними, но, с другой стороны, отход от демократических принципов здесь мне кажется оправданным – необходимо последовательное изложение основных линий повествования. Кроме того, если особые точки зрения того или другого автора не отражены напрямую, они были учтены, поскольку команда авторов неоднократно собиралась, чтобы обсудить ход общего исследования.
Я себя считаю социологом и общественным деятелем и пытаюсь совмещать эти два вида деятельности так, чтобы они шли не во вред, а дополняли друг друга. Поскольку я специализируюсь в областях социологии труда и социологии коллективных действий, моя общественная деятельность очень помогает в сборе материала. Но когда занимаюсь наукой (в частности, в этой книге), я стараюсь отбросить свои активистские ценности и не путать свои желания с действительностью – если искажать реальность, игнорировать проблемы и противоречия социальных движений, ни для науки, ни для активистов пользы не будет.
Мои политические взгляды складывались прежде всего в России - под воздействием того ужасающего зрелища, которое я наблюдала в 1990-х годах, когда я собирала материалы для написания диссертации о рабочем движении. Хватило несколько походов по заводам, чтобы понять, что просто смотреть со стороны и спокойно анализировать происходящее в кабинете – нестерпимо. Невозможно было оставаться пассивным зрителем и не принимать участия в судьбах тех людей, положение которых я изучала. Для меня невыплата зарплаты – это было (и остается) дикостью! Это ведь по сути рабский труд! Я стала интересоваться, есть ли в этой стране профсоюзы, защищают ли они социальные права людей и так далее. Так и втянулась… Сначала рабочее движение, затем жилищное движение (я даже стала специалистом в жилищном законодательстве РФ, хотя о французских законах в данной области я почти ничего не знаю). В общем, все это время в России я пыталась понять, разобраться, откуда такая ужасающая пассивность и покорность. И захотелось что-то делать, чтобы это изменить.
И чудеса случились: я встретила активистов, сначала случайно, у проходных заводов, потом они меня познакомили с другими, и сеть контактов постепенно расширилась.
Вот так началось мое путешествие по тропам активистской среды, достаточно малочисленной во второй половине 1990-х. Я долго искала, чем и как я могла бы помочь. Какое-то время думала это делать через включение российских активистов в международные сети. Это оказалось не очень полезным для внутреннего развития движения. Кое-что еще пробовала, пока, наконец, мы не создали с товарищами ИКД и – главное – не начались массовые выступления против монетизации льгот, и, соответственно, появилась общественная потребность в деятельности по содействию низовым гражданским инициативам.
Ольга Мирясова.
Я являюсь младшим научным сотрудником Института социологии РАН, собираюсь писать кандидатскую диссертацию. Но главное в моей жизни – активистская деятельность. Я считаю, что ответ на вопрос о справедливом устройстве общества лежит в анархическом мировоззрении, поэтому я участвую в деятельности движения «Автономное действие». Если совсем коротко, то анархизм предполагает самоорганизованное общество, в основе которого лежит уважение к личности каждого человека. В анархистское движение я пришла из экологического, поняв, что в рамках существующей политической системы бережное отношение к окружающей среде, основанное на стремлении сохранить ее пригодной для жизни будущих поколений, в принципе невозможно.
Если бы я одна писала эту книгу, я бы больше уделила внимания негативному влиянию, оказываемому политическими партиями, авторитарными организациями и государством на низовые инициативы и самоорганизующиеся сообщества. Политические партии заинтересованы в гражданских инициативах и движениях только как источнике голосов избирателей и возможности попиариться, они не чувствуют никакой ответственности за свои обещания в период между выборами. Партии в нашей стране не представляют интересов никаких социальных групп, выдвигают почти полностью идентичные политические программы и являются только инструментом для создания видимости демократии. Гражданским активистам на пути освоения активистских практик приходится преодолевать свои надежды на депутатов и партии, что отнимает у них дополнительные силы и время.
Кроме того, я бы не столь радужно писала о роли лидеров, которые часто мешают самоорганизации больше, чем помогают, поскольку у них есть свои цели и амбиции (политические, в том числе). Более того, лидерская позиция нередко приводит к формированию авторитарных качеств личности.
Несмотря на различия во взглядах между активистами ИКД, мы вполне сработались в сфере содействия развитию низовых общественных инициатив и исследования социальных движений.
Андрей Демидов.
Я достаточно рано погрузился в море политики, в оппозиционную политическую деятельность, в своем родном алтайском селе на границе с Казахстаном. Я воспринимал ее вполне в народническом духе как «долг перед народом» – перед оказавшимися в социальном гетто земляками, перед своей матерью, ставшей безработной, перед унижаемыми многомесячными задержками зарплаты коллегами по школе, где я подрабатывал, чтобы свести концы с концами.
Историк по образованию, я учился в аспирантуре на кафедре политологии в Барнауле. Но в результате бурной политической деятельности диссертация осталась недописанной, а я стал «видным деятелем местного масштаба» в КПРФ (куда же еще пойти в поисках оппозиции человеку в провинции?) и лидером краевой комсомольской организации.
В КПРФ я встретил, с одной стороны, молодой энтузиазм ребят, которые искренне верили, что коммунисты предложат им выход из беспросветного мрака повседневности и общества угнетения, с другой, замшелый догматизм партийного руководства, циничная игра головами «электората» и в общем-то нехилый уровень комфорта вождей разного уровня. Плюс напряженное марксистское самообразование (в университете этих знаний получить было нельзя). Вскоре диссонанс между идеалами и «реальной политикой» стал таким острым, что потребовалось взять паузу и заняться поисками собственной политической и шире – мировоззренческой – идентичности. И я переехал в Москву.
Переезд в Москву означал не только разрыв с прежней политической практикой. Это был поиск сообщества и концепции деятельности, которые позволили бы не жить двойной жизнью (или, используя известную формулу, «не во лжи»). Практику и идеологию я воспринимаю в диалектическом единстве: первая дает пищу для анализа и в тоже время служит проверкой теоретических построений.
Изголодавшись по пиршествам духа, я сперва отдал дань «профессорским» дискуссиям, которые, однако, скоро стали вызывать раздражение своим отрывом от живой практики. Я никогда не разделял брезгливого пренебрежения большинства «научных работников» по отношению к политической ангажированности, с одной стороны (что часто помогает маскировать ангажированность конформиста), ни барственно снисходительного отношения к суждениям «не остепененных» активистов.
Тем не менее, я благодарен тем интеллектуальным кружкам начала 2000-х годов, в которые я окунулся по приезду в Москву, благодарен за приобретенное уважение к слову, строгость аргументации, требовательность к фaктологической стороне написанного и сказанного. Говоря языком диалектики, этот антитезис к тезису моей предыдущей политической деятельности позволил мне логично перейти к синтезу в рамках ИКД.
Хотя универсализм, который сознательно культивируется в Институте, делает специализацию относительной, однако, у каждого есть основная тема. Моя – проблемы пенсионеров и льготников. Думаю, сыграла роль все та же любовь к «маленькому человеку», униженному и оскорбленному. Чего греха таить, среди политических активистов, особенно молодых, распространено пренебрежительное отношение к «пенсам», послушно голосующим за обрекшую их на нищету власть, верящим по сформировавшейся в советский период привычке всему, что говорится с телеэкрана. Монетизационные волнения, когда пенсионеры перекрывали дороги и противостояли ОМОНу, поколебали это отношение, но не смогли его переломить. Ведь боролись они не за революцию, а за прозаические вещи типа бесплатного проезда. И, как казалось, власть небольшими уступками смогла погасить этот порыв. Не все смогли услышать в «плебейских» лозунгах крик оскорбленного человеческого достоинства, а в «хаотичных» акциях удивительную способность к самоорганизации.
Шутя, товарищи называют меня самым молодым пенсионером. Да, мне интересно с этими людьми. А в нашем деле иначе нельзя. Холодное манипулирование или восприятие людей лишь в качестве объектов неприемлемо - ни морально, ни профессионально. Большую роль в мотивации играет, конечно, и глубокое уважение к поколению, победившему в самой страшной войне и восстановившему страну после нее. Я вновь отдаю долги (но отнюдь не тягостную повинность) моим бабушкам и дедушкам, которых, к сожалению, уже нет в живых. И я рад видеть, как это чувство морального долга воспроизводится в новом поколении активистов.
Немного о личном. Так получилось, что в нашем довольно молодом коллективе я пока единственный, у кого есть ребенок. Кажется, формально это не имеет отношения к тому, чем я занимаюсь, но это только так кажется. Не случайно, самой распространенной причиной прекращения общественной деятельностью среди молодых активистов являются не репрессии, а именно появление семьи и детей.
Приходится раз за разом задавать себе вопрос о ценности того, чем занимаешься. Причем, часто ловишь себя на том, что задаешь себе вопросы от имени сына. Что можно будет сказать в свое оправдание спустя 20-30 лет? Это заставляет строже подходить к своему времени и результатам деятельности. Не скрою, иногда бывают и минуты сомнений, связанные с чисто бытовыми перспективами существования семьи. И все же есть понимание, что построить приватное благополучие, герметичный мирок в океане окружающих страданий и несправедливости невозможно. Хотя возможность быть ближе к «правде жизни», ответственность за новую жизнь, радость общения сполна искупают те ограничения, которые накладывает наличие детей на общественную деятельность.
Да и прочие мои товарищи отнюдь не похожи на сумрачных аскетов – тип, который встречается среди профессиональных активистов. Нередко бывает, что собрания проходят в кафе «за рюмкой чая» - шутим, смеемся. Нормальная жизнь в не очень нормальных внешних условиях.
О нашей книге скажу, что я полностью поддерживаю общую логику и основные тезисы. Не только потому, что я обычно во всем согласен с мнением Карин (поскольку наши позиции обычно совпадают, мы редко с ней спорим, хотя бывают между нами и серьезные дискуссии), но прежде всего потому, что это соответствует моему восприятию и анализу социальных движений.
Добавлю еще одно замечание. Не будучи социологом, я не имел опыта проведения социологических исследований, но исходя из своего предшествующего опыта, я скоро понял, что социологический анализ (нашей) активистской деятельности просто необходим, и с тех пор являюсь его активным пропагандистом. Погружаться в мир обычных людей и в то же время помнить о своей миссии ученого, размышлять, сопоставлять, обобщать. И конечно, корректировать свою социальную и политическую практику, исходя из полученных результатов. Повторю, для меня нет ценности научного знания, которое не позволяет сделать жизнь людей более разумной, гуманной. Поэтому заканчиваю призывом социологам обратить внимание на социальные движения, а активистам найти время иногда заниматься саморефлексией.
О жанре книги
Мы пытались писать научно-публицистическую книгу. То есть, для нас был важным серьезный социологический анализ. Во-первых, чтобы выводы были обоснованы и убедительны для специалистов в области социологии и политологии, во-вторых, чтобы они смогли служить ориентиром в деятельности активистов. Но мы также старались излагать мысли на доступном и живом языке, чтобы книга смогла быть привлекательной для широкой публики - ученых, «профессиональных активистов», начинающих активистов, скептиков и любопытствующих обывателей.
Поэтому мы делали упор на анализ богатого эмпирического материала, на описание красочных эпизодов и значимых событий, на вырисовывание портретов ярких личностей. Этот выбор тем более обоснованный, что он соответствует и нашему теоретическому (микро-социологическому) подходу.
Просим прощение за объем: известно, что в наше время многостраничные книги не пользуются популярностью. Но слишком много было у нас информации, и рука не поднималась выбросить ту или иную значимую деталь, не упомянуть тот или иной уникальный опыт. Наш материал в своем роде уникален – вряд ли у кого может быть столько данных «из первых рук» об общественных движениях, поскольку мы сами являемся активистами, наблюдая постоянно движения изнутри. И если бы не наша личная заинтересованность, стоимость этого исследования намного бы превысила финансовые возможности среднестатистической исследовательской лаборатории, тем более, по такой «чувствительной» общественно-политической теме.
Очень надеемся, что нам удалось найти золотую середину между нудной, понятной только узкому кругу специалистов научной работой и развлекательной публицистикой. Не нам судить об этом. Мы хотим посоветовать нашим потенциальным читателям: есть множество способов читать книгу. Можно целиком от начала до конца, а можно пропускать чисто теоретические размышления или свободно прогуливаться по главам – каждая из них более или менее самостоятельна.
Если эта книга поможет активистам лучше ориентироваться в собственной деятельности, будет способствовать рефлексии над проблематикой социальных движений, мы будем рады.
Если она убедит социологов и других исследователей начать изучение общественных инициатив и социальных движений, мы будем рады вдвойне.
Если она сможет повысить авторитет и престиж активных граждан и активистов в нашем обществе, мы будем считать, что цель книги достигнута.
А если она подтолкнет колеблющихся к общественной деятельности, мы будем просто счастливы.
Об источниках данных, методе и научной проблеме
Нам повезло, что мы начали проводить исследование как раз тогда, когда началось оживление в общественном поле – во время массовых выступлений против «монетизации» льгот в начале 2005 года. Последовательно мы его проводили до конца 2008 года. Но до сих пор стараемся анализировать те события, свидетелями которых мы становимся. Надо сказать, что поскольку мы все являемся не только учеными, но еще и активистами, мы часто используем активистские мероприятия, чтобы собрать материал (взять интервью, пополнить дневник наблюдений).
Исследования охватили многие регионы и проводились в разных сообществах, в частности, в среде пенсионеров и инвалидов, среди активных жителей, в левой молодежной среде, в экологических и правозащитных организациях, а также в рабочем и профсоюзном движениях.
В своих рассуждениях мы берем за основу результаты трех исследований.
Основное из них называется «Новые возникающие социальные движения современной России» . Материалом для него послужили глубинные интервью и изучение отдельных случаев движений (case-studies). Также использовались результаты наблюдений (акций протеста, собраний, конференций…) и ежедневный мониторинг протестных действий.
Отчасти мы использовали данные проекта, в котором участвовали двое из авторов – «Социальные сети доверия, массовые движения и институты политического представительства в современной России» . Материалом для него служил массовый опрос (818 респондентов) среди активистов и не вовлеченных в общественные движения граждан России.
Наконец, очень полезным оказался материал (кейс-стади и наблюдения), который мы извлекли из проекта, заказанного Фондом «Общественное мнение» – «Социологические наблюдения опыта жилищного самоуправления».
В основном мы используем три типа данных.
1) Глубинные интервью: транскрибировано и проанализировано (методом контент-анализа) 120 интервью с лидерами и рядовыми активистами из двадцати регионов.
2) Мониторинг коллективных (прежде всего, протестных) действий. Данные мониторинга имеют качественный и количественный характер. Отчеты о различных формах коллективных действий в разных регионах формируются через сеть региональных корреспондентов-активистов, сотрудничающих с Институтом «Коллективное действие». Эти данные дополняются материалами СМИ для составления кратких еженедельных обзоров протестных акций. В них дается оценка количества участников и самих акций протеста, классифицированных по темам протестной деятельности. Описывается сам ход акции, ее причины, акторы, результаты. Кроме того, социологи ИКД в ходе полевой работы проводят включенные наблюдения коллективных действий в Москве и других городах. Наконец, мы располагаем отчетами и рассуждениями самих активистов о своей деятельности (само-рефлексия).
3) Кейс-стади: глубинное изучение отдельных случаев коллективной деятельности, проведенное в духе этносоциологии. Среди них – изучение сообществ жилищного самоуправления в Москве, Астрахани, Перми, Нижнем Новгороде, а также полевые исследования, проводимые на заводах АвтоВАЗ (Тольятти, Самарская область) и «Форд» (Всеволожск, Ленинградская область).
В результате у нас накопился огромный массив информации, и мы страдали скорее от ее избытка, чем недостатка. Поэтому наши рассуждения основаны на возможности сравнивать многочисленные гражданские инициативы, движения, практики и действующих лиц, что позволило нам время от времени делать обобщения.
Но в основном наши исследования носят качественный характер, т.е. углубляются в изучение конкретных и специфических случаев, траектории биографии активиста, его опыта, событий в жизни движения или инициативной группы. Мы тем более ценим такой подход, что он нам кажется наиболее плодотворным для понимания значения, смысла и причин общественной деятельности (которая все же касается малой части населения). Как мы покажем далее, опросы общественного мнения, тем более, статистика, мало дают для понимания реальных мотивов вовлеченности в общественную деятельность и процессах активизации. Даже самые профессиональные и серьезные количественные исследования не могут докопаться до центрального вопроса о том, в каких же ситуациях и под воздействием каких условий люди, ведущие до этого обычную жизнь, вдруг активизируются. То, что люди чем-то недовольны (это обычно фиксируется в опросах), еще не означает, что они будут на деле протестовать или пытаться изменить ситуацию, которая их не устраивает. Из того, что они на словах заявляют о своей готовности участвовать в протестных действиях, совершенно не следует, что на следующий день они побегут на митинг.
В массиве данных о коллективных действиях, которыми мы располагаем, есть одна более всего нас интересующая категория активных граждан. Это люди, которые еще недавно себя просто не мыслили участниками какого-либо самоорганизованного коллективного проекта, тем более, протестного, но в силу ряда причин стали активистами, а иногда даже лидерами инициативных групп, общественных организаций или движений.
Интервью и наблюдения показывают, что внутренний мир этих активистов-«неофитов» иногда настолько меняется, что они сами себя с трудом узнают. В качестве образцового высказывания можно привести фразу, произнесенную мужчиной среднего возраста, обычным представителем среднего класса Москвы, на трибуне конференции жилищного движения в июне 2006 года. Он рассказывал о том, как жильцы его дома борются уже больше года против сноса дома, и вдруг прозвучала фраза: «А это все при том, что еще год назад я был нормальным человеком!».
Итак, основная проблематика нашего исследования звучит следующим образом: откуда берутся общественно активные граждане? Что их заставляет встать на тернистый путь активизма? Что их удерживает на нем? Как происходит превращение «обывателей» в «активистов?
О нашем теоретическом подходе
Мы считаем фразу «Еще год назад я был нормальным человеком!» типичным эмпирическим проявлением трансформации стиля мышления и действия у людей без опыта общественно-политической деятельности. Для понимания и объяснения этой трансформации мы используем теорию фреймов, в основном, в духе нашего вдохновителя, американского социолога Ирвинга Гофмана . В рамках данной теории мы называем знаменательную составляющую процесса активизации «рефреймингом» или фрейм-трансформацией. О чем идет речь?
Фреймы («рамки») – это совокупность привычных практик, латентных смыслов действий и взаимодействий в определенной ситуации, которые воспринимаются как должные участниками взаимодействия. Проще говоря, это означает, что люди в обычных для них ситуациях действуют в привычных рамках (фреймах), по инерции, даже не осознавая причин и ограничений своих поступков. В современном российском обществе и применительно к нашей тематике, люди действуют по-обывательски, особенно не размышляя и не задумываясь. Для того, чтобы они поставили эти «рамки» под сомнение, необходимы особенные условия, определенные ситуации.
Кроме того, наш подход характеризуется особенным вниманием к микро-уровню и повседневным жизненным практикам людей. Потому что в отличие от активистов с большим опытом, для понимания мотиваций которых необходимо учесть их мировоззренческие принципы и ценности (хотя и не в отрыве от контекста), «неофиты» – и это основная масса активистов – подключаются к общественной деятельности на основании практического смысла или эмоций и под воздействием конкретной проблемной ситуации. То есть, как мы убедились в ходе исследования, понять причины возникновения коллективных действий невозможно в отрыве от осмысления сущности бытия этих людей и их повседневности, поскольку активность «неофитов» укорена в повседневности.
Наконец, мы в своем анализе учитываем плюрализм (многообразие) форм вовлечения человека в общественную жизнь и взаимодействия. В одной ситуации и при определенных условиях человек может действовать по-обывательски, в другой ситуации и других условиях – действовать более активно, принять участие в коллективных действиях, хотя и в рамках решения частной проблемы и узкого сообщества заинтересованных лиц. В третьем же случае индивид может проявить активность за пределами своего сообщества и ставить обобщенные вопросы. Здесь нас вдохновила теория французского социолога Лорана Тевено о «режимах вовлеченности» (engagement).
Согласно этой теории, в зависимости от режима (крайние варианты режимов -близость (близкое знакомство) и публичность (публичная сфера)) люди по-разному взаимодействуют между собой и подходят к осмыслению ситуации. Эта теория помогает нам объяснить наблюдаемую широкую палитру разных степеней общественной активности, а также поразмышлять о возможностях и условиях перехода от локальных и временных активистских инициатив к более масштабным и консолидированным активистским структурам. То есть, позволяет поставить вопрос о становлении массовых социальных движений.
Презентация книги
Общая логика построения книги следующая: от макро- до микроуровня и обратно к макроуровню.
В первой главе мы объясняем, что такое «обыватели» или обывательский стиль поведения – для активистов, для ученых и для нас. Мы пытаемся доказать, что мир обывателей не такой однозначный, как может показаться, и, в частности, что он не лишен ферментов активности.
Во второй главе мы определяем понятие «социальные движения», объясняем, в чем мы видим зарождающиеся движенческие структуры в сегодняшней России. И обосновываем наш выбор – почему мы считаем себя в праве использовать этот термин для квалификации констелляции достаточно раздробленных и локализированных протестных и гражданских инициатив, возникших в стране в последнее время. Наконец, чтобы можно было говорить о качественно новой волне активизации, мы сравниваем современные движения с предыдущими эпохами общественного подъема, имевшими место в постсоветской России.
В третьей главе мы обстоятельно и подробно описываем три главнейших – на наш взгляд – социальных движения (условно говоря, движение льготников, жилищное движение и рабочее движение), и по поводу каждого из них задаемся вопросом: действительно ли они являются социальными движениями? По каждому из них мы даем фактологическую информацию, анализ действующих лиц, структуризации, мотиваций, проблем, целей, эволюции во времени, методов действий и результатов, а также оценки сильных и слабых мест. В каждом из них мы крупным планом освещаем отдельные яркие и показательные эпизоды и мероприятия. Наконец, в каждом из них пытаемся отслеживать объединительные или, наоборот, разъединяющие процессы.
В четвертой главе мы занимаемся поисками теоретических подходов, которые могут нам помочь в объяснении и понимании социальных движений нынешней России. Сначала мы рассматриваем известные макросоциологические западные теории коллективных действий и устанавливаем их степень пригодности для анализа того, что мы наблюдаем в России, а также отбираем, расширяем и углубляем те аспекты теоретического корпуса, которые лучше подходят к российскому полю. И приходим к выводу о том, что все подходы имеет ту или иную релевантность, но ограниченную и скорректированную рамками поля. Тем не менее, мы выделяем среди них подход, который уделяет особенное значение лидерам и деятельности акторов по преодолению препятствий неблагоприятных общих политических и социокультурных условий. При этом мы определяем лидеров по-своему – как лиц, обладающих уполномочивающей властью. Затем мы доказываем необходимость дополнить макросоциологические теории микроанализом того, что делают, говорят, как действуют и взаимодействуют сами люди в определенных ситуациях. И подробнее разъясняем, в чем суть того подхода, который мы считаем наиболее отвечающим требованиям поля – теории прагматического рефрейминга. Наконец, мы вступаем в дискуссии с немногими отечественными социологами, занимающимися тематикой социальных движений.
В пятой главе мы погружаемся в глубину поля и при свете теоретической схемы путешествуем по разным ситуациям и местам, в которых образовалась активистская инициатива или социальное движение. Мы останавливаемся на четырех случаях – жилищное движение в Астрахани, забастовочное движение на «Форде» и АвтоВАЗе, и гражданско-протестное движение в Ижевске. В каждом случае мы подробно описываем контекст, ситуацию, события, действующие и взаимодействующие между собой лица, этапы активизации, ее условия и препятствия. Мы показываем, как простые жители, работяги и пенсионеры превратились в участников социальных движений. И как эти движения укрепляются, развиваются или, наоборот, ослабевают или распадаются.
В шестой главе мы приглашаем познакомиться поближе с лидерами: кто они такие, откуда взялись, почему и как они стали активистами, взяли на себя роль инициаторов? Мы рассматриваем жизненный путь человека, происхождение, социальные характеристики, окружающий его мир, мировоззрение, а также контекст, ситуацию и условия, объясняющие его становление в качестве лидера. Поскольку новая волна низовой активизации требует именно «уполномочивающих лидеров», мы особое внимание уделяем условиям возникновения или утверждения у лидеров «уполномочивающего (раскрепощающего) авторитета». Затем мы выделяем разные типы лидеров, в частности, группы лидеров-обывателей, лидеров-идеологов, лидеров-организаторов и лидеров-пассионариев. Мы также подчеркиваем условность деления лидеров на политических и социальных.
Седьмая глава является в то же время заключительной частью, где мы приводим основные итоги в сжатом виде. Кроме того, мы пытаемся размышлять о перспективах социальных движений, в частности (но не только), на примере анализа случая одной довольно успешной межрегиональной сетевой структуры – Союз Координационных Советов России (СКС). Для этого мы задаемся вопросом о возможном переходе от локальных проблем и сообществ к более общим проблемам и масштабным сообществам. Поднимаем вопросы о консолидации, солидарности и путях расширения поля совместных действий, об инструментах институционализации солидарных установок и практик. Рассуждаем о содержании социального проекта, который разделяют между собой участники движений и показываем, что требования не ограничиваются узкими интересами, приземленными нуждами и мольбами о помощи. И заканчиваем вопросом о политике, взятой в широком смысле этого слова, и доказываем начало процесса политизации общественных активистов. Завершается книга словами о подъеме «анти-обывательской волны» в российском обществе.