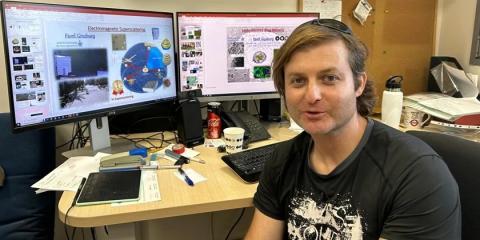Ученый - репатриант создал уникальную лабораторию
Пирамидки сделаны из поролона, пропитанного карбоном. Они поглощают не только звук, но и электромагнитные волны. Пол – клетка Фарадея, полностью защищает от магнитных полей.
— Любой беспроводной прибор, который у вас когда-либо был в кармане, прошел через испытание в такой камере, — объясняет Павел Гинзбург.
Но в его лаборатории исследуют не антенны мобильных телефонов, а радары. Точнее то, как разные предметы на них отображаются.
Проблема незаметности
Вещи на экране радара могут выглядеть совсем не так, как в действительности. Особенно, если инженеры постарались.
— Сколько мух в F-35? – приводит любимый пример профессор Гинзбург.
Правильный ответ – 5-10 мух. Этот самолет действительно почти невидимка. А вот F-16 не такой незаметный – он на радаре дает сигнал примерно такой же силы, как стая гусей.
Зато шипастый мячик чуть меньше теннисного, который Павел держит на ладони, отображается в лучах радара как цель размером с боевой самолет. Это одно из известных широкой публики изобретений его лаборатории, разработанное с помощью генетического компьютерного алгоритма.
Такие алгоритмы сами по себе жутко интересная штука. Они воспроизводят принципы эволюционного отбора. То есть, внутри компьютера разные варианты решения задачи конкурируют друг с другом. Более приспособленные выживают и передают свои свойства следующему поколению с добавлением «мутаций», а там все повторяется. И самый известный пример их применения – направленная антенна для миссии NASA, похожая на причудливо изогнутую скрепку. Изгибы совершенно не очевидны. Но оказались идеальными с точки зрения технических характеристик.
Похожий инструмент применили и в лаборатории Гинзбурга. И получили компактный предмет с очень сильным рассеиванием радарного луча.
Понятно, что у такого изделия масса потенциальных военных применений. Скажем, создание ложных целей. Но есть и вполне гражданские области. Ведь иногда нам специально нужно, чтобы объект был хорошо заметен на радаре. Например, чтобы избежать столкновения.
С каждым годом в небе все больше мирных дронов. Они все более автономные, но при этом маленькие и незаметные. И если мы хотим, чтобы они не сталкивались друг с другом, отличным решением проблемы станет повышение их радарной заметности.
Вообще, для радара дрон похож на птицу. И это одна из главных проблем как безопасности воздушных перевозок, так противовоздушной обороны. Птиц много, и на их фоне легко упустить БПЛА. Поэтому все системы ПВО вынуждены вечно искать баланс.
— Поставишь порог чувствительности слишком низкий, будет на каждого голубя реагировать. Слишком высокий – пропустит дрон, — объясняет Павел Гинзбург.
Как точнее и надежнее распознать беспилотник? Над этой проблемой бьются ученые во всем мире.
Современный подход основан на том простом факте, что птица и дрон все-таки летают по-разному. Птица машет крыльями, у дрона вращаются пропеллеры. Частота радарного луча чуть-чуть меняется, когда он отражается от подвижных лопастей, говорит профессор Гинзбург. И эти различия можно заметить. Именно в этом направлении и работает его лаборатория.
В соседнем с безэховой камерой помещении на фанерном стенде установлена модель беспилотника. Жужжат моторы, крутятся пропеллеры. Винты сделаны из пластика, с вставленными в них медными кружочками замысловатой формы. Эти кружки тоже разработка генетического алгоритма и тоже очень хорошо видны на радаре.
Дрон-модель умеет наклоняться и поворачивать. Только не взлетает, потому что плотно приделана, как крейсер «Аврора» в родном городе Павла.
Между Купчино и Лондоном
До старших классов школы Павел жил в Купчино, питерской окраине с особо дурной репутацией. Зайдешь в соседний двор – драки не миновать. Ему было 16, когда семья репатриировалась. Шел 1996 год, родители устроились на простую репатриантскую работу, а будущий профессор пошел в 11 класс. Иврита после петербургского ульпана хватало. Потом была армия, пехота, боевая часть и три степени в Технионе.
После университета Павел Гинзбург уехал на 3 года в Лондон в докторантуру в Kings College. В израильской науке принято получать одну из ученых степеней где-нибудь за рубежом, чтобы потом привезти в страну свежие идеи и взгляды.
В Лондоне он работал в большой мультидисциплинароной лаборатории. Вернулся в 2015 году и основал собственную.
Павлу 45 лет. Полудлинные волосы, кеды, в углу кабинета гитара. На стене «Зенита», память о питерском детстве. Он немного тяготится, что половину времени приходится тратить на управление людьми. И благодарен искусственному интеллекту, который весьма облегчает служебную переписку.
Сейчас под его началом около 20 человек: химики и биохимики, физики-оптики, инженеры-электрики, материаловеды, дизайнеры, программисты. В том числе и несколько репатриантов из «военной алии». Павел устроил их по программе министерства абсорбции и очень доволен.
Занимаются в лаборатории несколькими междисциплинарными направлениями. С одной стороны, электромагнетизм и беспроводная связь. С другой, наночастицы для доставки лекарств. На первый взгляд, одно от другого очень далеко. Но команде как-то удалось найти общий знаменатель.
Матрёшка для рака
Наночастицы, которыми тут занимаются, это структурированный карбонат кальция. Вещество, хорошо известное по накипи в чайнике. Из нее делают крошечные контейнеры для препаратов, собранные в несколько слоев, наподобие матрешки.
Медицинские наночастицы различаются по способу доставки в нужное место. Есть, например, дорогой способ, когда к частице приделывается антитело для адресной доставки. Есть способ статистический. Известно, что благодаря особенности развития своих кровеносных сосудов раковые опухоли собирают в себе значительно больше наночастиц, чем обычные ткани.
В лаборатории Павла Гинзбурга экспериментируют с двумя другими методами. Один из них называется по-английски shape targeting. Русского термина для этого нет, но суть в том, что сама форма наночастицы может помочь ей оказаться в нужном месте.
— Мы доказали, что раковые клетки любят эллиптические частицы. И гораздо охотнее поглощают их, чем круглые, — рассказывает профессор Гинзбург.
Второй способ доставки – магнитный. Когда частицу ведут в нужное место с помощью магнитного поля, корректируя направление с помощью компьютерного томографа
Это совместный проект с больницей «Хадасса». Частицы уже испытали на мышах. И теперь готовятся к более крупным подопытным. В конце марта ждут очереди на свинью. Эксперименты со свиньями в Израиле очень дорогие, и на каждую много претендентов. Но размер имеет значения. А в этом смысле свинья и человек очень похожи
— Магнитное поле быстро затухает. И то, что работает с маленькой мышкой, может не сработать с толстой свиньей, — объясняет профессор Гинзбург.
Еще наночастицы могут пригодиться, чтобы лекарства лучше впитались и усвоились. Даже если никуда доставлять их не надо, а можно положить прямо на рану. Сейчас в лаборатории разрабатывают антибактериальные препараты для диабетических язв. Наночастицы должны помочь преодолеть устойчивость микробов к антибиотикам.
Профессор ведет меня в ту часть лаборатории, где занимаются наночастицами. Но прямо сейчас идет эксперимент. Мужчина в очках, уверяет, что мы ему совсем не мешаем и предлагает все-таки зайти. Но Павел Гинзбург предпочитает не прерывать работы.
На часах уже 7 вечера. Но экспериментатор и не думает заканчивать работу, отмечает профессор. Этот сотрудник как раз из новых репатриантов, до 2022 года работал в известном московском вузе.
Университет без студентов
Лаборатория университетская, и по логике вещей основным источником сотрудников должны служить университетские аудитории. Но у студентов сейчас другие приоритеты.
— Мы не можем конкурировать с зарплатами в хай-теке, — объясняет профессор. — Поэтому из студентов у нас остаются только идейные.
Со времени его собственного студенчества университет изменился кардинально. Например, после пандемии короны все лекции есть в сети. И явка студентов падает катастрофически.
— Проще все послушать дома в тапках. А ты стоишь перед пустой аудиторией, — безрадостно произносит Павел. — Университет перестает быть центром знаний. В сети множество курсов по любым темам.
А еще есть дистанционное обучение в ведущих американских университетах. И учеба там стоит дешевле, чем аренда студенческой квартиры в Тель-Авиве.
— Надо переходить с фронтального обучения на модель менторства, — уверен профессор Гинзбург.
Он читает курсы по электромагнитным полям, физике лазеров и ведет так называемую DIY лабораторию. В ней есть все необходимое оборудование. И студент работает сам, получая от научного наставника только задания и консультации. Павел Гинзбург надеется, что как-то так и будет работать университет будущего.
Вдруг дверь отворяется, и за нею появляется седой мужчина. Просто попрощаться с Павлом.
— Он из соседней дружественной лаборатории. Там исследуют рак, режут мышей, а мы для них делаем наночастицы. Этот мужчина, кстати, миллионер, у него своя компания. Но несколько дней в неделю он проводит в лаборатории, потому что ему интересно, — объясняет профессор Гинзбург.
Увлеченный человек. Как и сам Павел. Напоследок он рассказывает о самом новом своем проекте. Он родился из той самой премии, которую вручал Ицхак Герцог. Вместе с Павлом ее получал хирург-ортопед Алекс Лернер. Пока ждали президента, врач и физик придумали, как поработать вместе.
Речь об ортопедических имплантах. Иногда они неправильно приживаются, и тогда приходится заново ломать ногу или руку. Павел сразу подумал, что наночастицы, добавленные к импланту, помогут ему прижиться и могут еще и выделять нужное для заживления лекарство.
Вернувшись в лабораторию, он поделился идеей с сотрудниками. Те развили ее, проверили основные принципы и сейчас готовятся регистрировать патент.
— В этом и преимущество университета: есть оборудование, есть люди и есть свобода для исследований, — улыбается профессор.
Никита Аронов