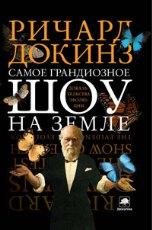Самое грандиозное шоу на Земле
Докинз, кстати, даже не представляет, до каких пределов может доходить мракобесие, замешанное на невежестве. В качестве метафоры креационизма он предлагает представить себе растерянного латиниста, чьи ученики настойчиво объясняют ему, что французский, итальянский, румынский, португальский языки не произошли от латыни, а возникли сами собой совершенно независимо, и их структурное и словарное сходство — не результат эволюции из единого источника, а... ну, что-то другое; так получилось. У наций без комплекса исторической неполноценности «альтернативная история» не в большой чести, а вот в России почти любой разговор об истории или, того хуже, об этимологии сразу привлекает целые стаи фоменковцев и прочих невежд, и латинская страшилка Докинза вполне может произойти в реальности.
В этой книге Докинз не воюет с религией — об этом он не так давно написал отдельный труд, вышедший по-русски под названием «Бог как иллюзия». Он лишь объясняет, почему эволюция существует и почему это «самое грандиозное шоу на Земле». Сначала он пытается разделаться с терминологической проблемой — у слова «теория» есть призвук умозрительного построения, не тождественного факту, и на этом основании противники дарвинизма требуют внесения в школьные, а иногда и университетские программы креационизма, ведь теория эволюции — «всего лишь теория». К сожалению, не очень ясно, насколько доводы Докинза могут подействовать на людей, не владеющих основами научной логики.
Тут вообще есть проблема: трактаты подобного рода обычно обращены к людям, которые и так не очень сомневаются в том, что теория эволюции в любых бытовых и образовательных контекстах может приниматься за доказанный факт, а противники просто не будут слушать никакие доводы. Ошеломляющее впечатление производит расшифровка беседы Докинза с Венди Райт, председательницей общества «Обеспокоенные женщины Америки»: она говорит ему — нет реальных доказательств эволюции, а то их показывали бы в музеях; он ей говорит — сходите в музей, все там есть; и этот па-де-де навязчиво повторяется снова и снова, без малейшего проблеска понимания в словах собеседницы.
Но для тех, кто просто хочет в очередной раз проникнуться чудом и величием жизни, в книге Докинза есть множество интереснейших примеров. Из того, что меня особенно поразило, упомяну невероятный по элегантности и упорству многолетний эксперимент Ричарда Ленски и его сотрудников по выращиванию разных линий бактерии E. coli — в буквальном смысле слова «эволюция в реальном времени»; другой пример того же из совсем другой области — неожиданная недавняя эволюция слонов в сторону уменьшения бивней: меньше бивни — меньше шанс пасть от пули браконьера; тунец на эволюционной лестнице (в смысле родства) стоит ближе к человеку, чем к акуле (а бегемот ближе к киту, чем к свинье); в Новой Зеландии до прибытия туда первых людей не было млекопитающих. Докинз не только в стиле фокусника (шоу ведь) поражает читателя эффектными примерами, но и терпеливо, даже занудно объясняет сложные концепции, в частности, связанные с эмбриологией и совсем молодым направлением науки — биологией развития.
Важная мысль, которую Докинз не устает повторять снова и снова, заключается в том, что у эволюции нет цели и в каждый конкретный момент ей приходится иметь дело с тем, что есть в наличии. Известный оптик Герман Гельмгольц в свое время сказал, что, если бы инженер принес ему чертеж человеческого глаза, он бы посоветовал ему никогда не пытаться что-либо проектировать — до такой степени это неинтуитивный, неудобный дизайн. Так, например, сквозь сетчатку проходит толстенный пучок нервов, и в этом месте у нас здоровущее слепое пятно; мы не замечаем его только потому, что мозг — сам продукт множественных эволюционных наслоений — на ходу «рендерит» изображение, заполняя пустоту, как контекстный фильтр в фотошопе.
Креационисты иногда утверждают, что эволюция — создание порядка из кажущегося хаоса — противоречит второму закону термодинамики и без организующей роли творца тут не обойтись. Но второй закон термодинамики относится к замкнутым системам, а для жизни на Земле роль такого творца — а проще говоря, источника энергии — играет Солнце, так что никакого противоречия тут нет. Эту мысль Докинз тоже разъясняет внятно и подробно.
Книга написана в характерном для Докинза цветистом стиле, но в ней меньше самолюбования, которое все сильнее буйствовало в его недавних произведениях. Иногда автору не мешало бы обратиться к специалистам, а не высказывать свое недоумение во всеуслышание — так, например, он удивляется, почему пишут cord, но notochord (в русском переводе этот фрагмент выпущен), хотя такая вариативность пронизывает всю английскую орфографию; а история про то, что подсолнечное масло прижилось в России как постный продукт, потому что подсолнечник не упомянут в Библии, напоминает городскую легенду. В целом же переводчик и редакторы подошли к делу тщательно и ответственно, а замечания А. Маркова, который в ряде случаев не согласен с автором, скорее, все-таки показывают, что Докинз — достаточно серьезный ученый. (Об этом спорят: прямо сейчас в печати разгорелась жестокая битва между Докинзом и основателем социобиологии Эдвардом О. Уилсоном, в которой обе стороны не снисходят до парламентских выражений.)
Когда я читаю книги об эволюции, я неизменно испытываю благоговение перед фигурой Дарвина — который, как показывает Докинз, предсказал многие направления развития науки на десятилетия вперед и даже был буквально в одном шаге от того, чтобы осмыслить генетические механизмы наследственности (ставшие сколько-нибудь понятными лишь через сто лет после выхода «Происхождения видов»).
В письме ботанику Джозефу Хукеру Дарвин писал: «Размышлять в настоящее время о происхождении жизни — полный вздор; с тем же успехом можно было бы размышлять о происхождении материи» (эта цитата в русской версии «Шоу» переведена неточно). Интересно, что теперь, 150 лет спустя, ученые гораздо больше знают о происхождении материи, чем о происхождении жизни. Но тут важна оговорка «в настоящее время» (at present): Дарвин знал, что даже самыми вздорными идеями наука когда-нибудь сможет заняться. Как гласит завершающий пассаж «Происхождения видов», «есть величие в этом воззрении». В непреходящем ощущении этого величия — ценность этой и других книг Докинза.
Виктор Сонькин