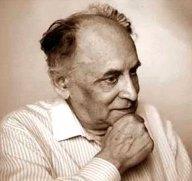Владимир Павлович Эфроимсон
Мы часто встречались с Владимиром Павловичем. Он жил на первом этаже панельного дома недалеко от метро "Юго-Западная", вся его квартира от пола до потолка была заставлена книгами и рукописями. Если не считать книжных стеллажей мебель практически отсутствовала, не было ни радио, ни телевизора. Обычно мы сидели в маленькой кухоньке, распивали чаи и беседовали до поздней ночи.
Даже те, кому пришлось хотя бы кратко общаться с Владимиром Павловичем, не могли не испытывать особое, покоряющее обаяние искренности и неукоснительной порядочности. Для него была характерна какая-то внутренняя концентрация, отвлечённость мысли от бытовых вопросов, одержимость идеями истины и справедливости, нравственная решительность, чувство гражданского долга. Владимир Павлович свободно владел шестью языками, был большим знатоком и любителем поэзии, поражал феноменальной эрудицией в области истории, не говоря уже о генетике, медицине и психологии. Это была самая выдающаяся личность, с которой мне когда-либо приходилось состоять в дружеских отношениях. На его высоком лбу, в его сосредоточенном взгляде, одухотворенности облика, в его мощной энергетике проступала печать гениальности.
Он родился в 1908 году в Москве в знаменитом доме на улице Лубянка 2, который тогда принадлежал страховому обществу "Россия", сдававшему квартиры в наем. Потом в этом доме размещался "Госстрах" - ЧК, НКВД, КГБ. Отец Эфроимсона был сыном местечкового раввина, но сумел получить юридическое образование и стал крупным банковским специалистом. В 1926 году на первом судебном процессе по сфабрикованному делу о так называемой "экономической контрреволюции" он получил 10 лет тюрьмы. Отец был человеком безукоризненной честности, и его несправедливое осуждение вызвало у сына сильное душевное смятение, оставившее след на всю жизнь.
Эфроимсон поступил в Московский университет на биологический факультет (отделение генетики), но закончил только четыре курса. Уже в конце 20-х - начале 30-х годов усилились гонения на генетику. В 1929 году во всех смертных грехах и чуть ли не в пособничестве троцкизму обвинили и изгнали из университета профессора С.С. Четверикова, руководителя кафедры генетики, крупнейшего ученого с мировым именем. Единственным, кто смело выступил в его защиту, был Эфроимсон – за это и он был исключен из университета. Академик Н.К. Кольцов пытался его защитить, направив письмо ректору университета (тогда этот пост занимал Вышинский, будущий главный прокурор СССР); он характеризовал Эфроимсона как одного из самых талантливых студентов, просил восстановить его в университете, но напрасно. Однако Эфроимсон не бросил генетику, учился самостоятельно, считал себя учеником Н.К. Кольцова, работал в Рентгеновском институте, а потом в Медико-биологическом институте, проводил эксперименты под руководством его директора Соломона Григорьевича Левита, сумел получить интересные научные результаты.
В 1932 году Эфроимсон был арестован по обвинению в антисоветской деятельности, следователь на Лубянке допрашивал его чуть ли не в его бывшей квартире. Из него пытались выбить показания на Н.К. Кольцова, который будто бы занимался антисоветской агитацией. Никаких реальных улик по делу Эфроимсона не обнаружили и ему дали "всего" три года.
Начался первый лагерный этап в его жизни. Он строил дорогу в Горной Шории, знаменитый Чуйский тракт, долбил ломом каменистую почву, работал лопатой, возил землю на тачке - каждый день с утра до вечера, под конвоем. Надо было вырабатывать норму, иначе не получишь пайку хлеба и баланду на обед. Он был крайне истощен, едва не погиб, но все-таки выжил.
В конце 1935 года Эфроимсона, еле держащегося на ногах, освободили. Но как устроиться на работу с "волчьим билетом" (58 статья). Долго мыкался в поисках работы, но помогли друзья-генетики, устроили его далеко от Москвы - в Среднеазиатский институт шелководства. Там он ринулся в любимую работу, как говорил сам, трудился по шестнадцать часов, часто ночевал в лаборатории, никакого общения ни с кем, только работа. За полтора года он добился крупного научного результата - выведения новой линии высокопродуктивного шелкопряда, а вместе с этим и решения ряда важных генетических проблем. Но тут наступил 1937 год. Репрессиям подверглись и генетики: был расстрелян учитель Эфроимсона С.Г. Левит, Н.К. Беляев, другие крупные ученые В институте все начальство - ставленники "народного академика" Лысенко. Эфроимсона - единственного генетика в Институте - объявили "врагом народа" и уволили - опять с "волчьим билетом". Готовый набор его книги, в которой были изложены результаты исследований, рассыпали. Ему еще повезло: попался "хороший" следователь НКВД, располагавший сведениями, что Эфроимсон с утра до вечера работал в лаборатории, ни с кем особенно не общался, ничего крамольного не говорил. Его не посадили, но сказали: убирайся отсюда побыстрее и подальше.
Опять начались скитания в поисках работы. Полтора года не мог нигде устроиться, какое-то время Эфроимсон преподавал немецкий язык в школе. Наконец, опять с помощью друзей-генетиков, его взяли на селекционную станцию в Мерефе (недалеко от Харькова). Там он продолжил свои исследования, восстановил книгу. Со временем у него возникли связи с биологическим факультетом Харьковского университета и за пару месяцев до начала войны ему удалось защитить кандидатскую диссертацию.
Немногочисленные ученые имели "бронь" от армии. Но уже в первые дни войны Эфроимсон явился в военкомат и попросил, чтобы его взяли в действующую армию, предложил свои услуги, как знаток немецкого языка - из-за судимости ему отказали. Однако уже в начале сентября 1941 года Эфроимсон оказался на фронте, и как человек в совершенстве знающий немецкий язык стал помощником командира разведки дивизии, участвовал в боевых операциях, был переводчиком на допросах пленных, переводил захваченные немецкие документы.
Еще в 1941 году Эфроимсона в числе первых шести человек в дивизии наградили орденом Красной звезды за боевые заслуги – в тот период войны награждали крайне редко. Через несколько месяцев обнаружилось, что у него судимость по 58 статье, и Эфроимсона перевели из разведки в медсанбат. Но без него никак не могли обойтись, и всякий раз, когда нужен был переводчик, а это случалось очень часто, его вызывали из медсанбата, на что начальство закрывало глаза.
Владимир Павлович прошел войну от начала до конца в составе 49-й армии, участвовал во многих боях, выходил из окружения, был награжден орденами и медалями. Когда армия наступала, ему поручалось ответственное задание: входить в города с передовой частью и тщательно выяснять, нет ли признаков подготовки немцев к химической войне.
В Германии Эфроимсон стал свидетелем массового безпредела: мародерства и грабежей, насилия и убийств женщин. Он написал рапорт начальству, требуя прекращения эксцессов, позорящих Советскую Армию. Рапорт вызвал начальственный гнев – Эфроимсон обвиняет воинов-освободителей, защищает врагов! Дело приобретало серьезный оборот, и только самоотверженность и мужество, прямота и честность Эфроимсона, хорошо известные в 49-й армии, помогли ему избежать суровых последствий: он получил выговор, рапорт «положили под сукно» (хотя он остался в личном деле и позже сыграл свою роль).
После войны боевой офицер, орденоносец, кандидат наук Владимир Эфроимсон стал доцентом кафедры генетики Харьковского университета. Он с головой ушел в новые экспериментальные исследования и уже в 1947 году защитил докторскую диссертацию. Но успешная работа длилась недолго. В 1948 году началась кампания против "безродных космополитов". Лысенко и его приспешники при партийной поддержке обрушились на генетику. Эфроимсона "с позором" изгнали из университета за "низкопоклонство перед Западом". В том же году состоялась знаменитая Сессия ВАСХНИЛ, на которой с докладом, утвержденным самим Сталиным, выступил Лысенко. Это был полный разгром генетики.
Безработный Эфроимсон, однако, не терял времени даром. Он провел тщательное исследование "достижений" Лысенко и его школы, проанализировал все публикации "народного академика" и разоблачил его фальсификации, липовые результаты, подтасовки, наглый обман. Итогом расследования стал 300-страничный доклад, озаглавленный "Об ущербе, нанесенном Советскому государству, науке и сельскому хозяйству "новаторством" Лысенко". С этим трудом, переплетенном на манер диссертации, он приехал в Москву и пытался подать в суд на Лысенко, пробился в ЦК КПСС на прием к заведующему отделом науки Юрию Жданову.
Это происходило в конце 1948 - начале 1949 года, и друзья Эфроимсона удивлялись, что он все еще на свободе. Его арестовали в мае 1949 года, инкриминировав не борьбу против Лысенко, чего он требовал и что было реальной причиной ареста, а "клевету на советскую армию-освободительницу". Извлекли его рапорт 45-го года, припомнили старую судимость. Эфроимсон решительно отрицал свою вину, требовал приобщить к делу свой критический доклад, который он видел в руках у следователя (переданный ему, разумеется, из ЦК КПСС). От Эфроимсона требовали признания в антисоветской деятельности - в ответ он объявил голодовку. Его жестоко избивали, бросали в карцер, но он так и не подписал фиктивных "признаний". Предсказуемым результатом этой борьбы стал "судебный" приговор: 10 лет лагерей, лишение орденов и ученой степени.
Начался второй круг лагерной жизни: Степлаг в Казахстане, и "далее - везде"... Снова непосильный труд, голод, соседство с уголовниками, существование на грани жизни и смерти. И так - почти шесть лет, лучших творческих лет жизни. О том, что он пережил и как ему удалось выжить можно написать целую книгу.
Эфроимсона как и миллионы его соотечественников спасла смерть Сталина и последовавшие за этим перемены. В 1955 году его выпустили, но не реабилитировали, запретив жить в Москве. Он поселился в Клину, не имея работы и средств существования, перебивался скудными заработками, реферируя научные журналы для Института научной и технической информации. Несмотря на то, что позиции лысенковцев были все еще сильны, Эфроимсон сразу же после освобождения восстановил свой критическое исследование, направленное против Лысенко и подал его в Прокуратуру СССР, но там дело замяли.
В 1956 году Эфроимсона реабилитировали, но докторскую степень не вернули и на работу не принимали. От нищеты и прозябания его спасла Маргарита Ивановна Рудомино, директор Библиотеки иностранной литературы, помогавшая и другим опальным ученым. Она взяла Эфроимсона старшим библиографом, и он параллельно с работой получил возможность заниматься наукой. Обладая невероятной работоспособностью, Владимир Павлович уже в 1958 завершил свой фундаментальный труд "Введение в медицинскую генетику", издать который удалось только в 1964 году. Потом книга переиздавалась и стала настольной для многих врачей и биологов.
Эфроимсону, наконец - через 15 лет - вернули докторскую степень и он устроился в Институт вакцин и сывороток им. Мечникова, организовал там лабораторию медицинской генетики. Здесь он создал еще один свой фундаментальный труд: его книга "Иммунногенетика" вышла в 1971 году. В том же году журнал "Новый мир" опубликовал его большую статью "Родословная альтруизма". Эта пионерская работа положила начало новому научному направлению - социобиологии, которая через несколько лет начала быстро развиваться на Западе. Вместо приоритета в создании нового научного направления бдительные стражи марксистской идеологии усмотрели в ней отступление от исторического материализма, и имя автора на многие годы стало объектом критики, в которой принимал участие также академик, лауреат и герой труда Николай Дубинин.
В 1967 году Эфроимсону предложили возглавить отдел медицинской генетики в Институте психиатрии. Здесь он развернул широкие новаторские исследования по генетике психических болезней и выяснению роли наследственных факторов в формировании личности. За немногие годы работы в институте им была опубликована серия статей по генетике психических заболеваний и выдающаяся по своему значению для медицины монография "Генетика олигофрений, психозов и эпилепсий". Несмотря на столь значительные научные результаты, на широкую и чрезвычайно актуальную программу исследований, развернутую Эфроимсоном, его работа опять была прервана. Замаскированные лысенковцы, которых было немало в партийных органах, в руководстве Министерства здравоохранения и Академии медицинских наук, люто ненавидевшие Эфроимсона, вынудили его уйти на пенсию, хотя он был полон творческих сил и планов.
Начался новый этап жизни: рабочим местом Эфроимсона стала главная библиотека страны - "Ленинка", как ее тогда называли. Там у него появился отдельный стол, на котором всегда возвышалась внушительная стопка книг на разных языках. Рабочий день с 10 утра до 10 вечера, перерыв - час на обед в столовой библиотеки. Он выполнял свой давний замысел - написать книги "Генетика гениальности" и "Педагогика и генетика". Эфроимсон разработал концепцию, объясняющую генетические факторы, которые обусловливают феномен гениальности. Он отобрал 400 величайших гениев за всю историю человечества и ознакомился с биографической литературой о них на пяти языках, выявляя наследственные недуги и особенности их психики.
Эфроимсон проработал несколько тысяч источников, собрал и проанализировал колоссальный по объему материал, послуживший основой создания систематизированной патографии гениев. Его книга "Генетика гениальности" - уникальный труд, открывающий новую страницу в исследовании таланта и гениальности. Столь же новаторским и чрезвычайно ценным трудом стала его книга "Педагогика и генетика". Кроме них Владимир Павлович написал еще две замечательные книги: "Этика и генетика" и "Эстетика и генетика".
Книги были подготовлены к печати, но как их опубликовать? Всюду он получал категорический отказ. Высокопоставленные рецензенты в один голос заявляли, что позиция автора не согласуется с марксистской теорией личности, ведет к биологизации социальной природы человека и т. п. Все последние годы жизни Владимир Павлович пытался пробить бетонную стену воинствующего догматизма, идеологической цензуры, чиновничьей бдительности в издательствах - как бы чего не вышло.
Эфроимсон часто болел, с трудом ходил, но не сдавался. Вместо большого тяжелого портфеля он стал использовать рюкзак, в котором он носил за спиной свои рукописи. В троллейбусной тесноте, с палочкой в руке он чуть ли не каждый день, как на работу, ездил по разным инстанциям, убеждал, доказывал. Нередко ему обещали, обнадеживали, было принято даже решение Президиума Академии медицинских наук опубликовать его книгу "Генетика гениальности". Она была принята издательством "Медицина", ее готовили к печати, но кто-то застопорил процесс, и дело заглохло. Владимир Павлович Эфроимсон умер в 1989 году, так и не дождавшись публикации своих трудов.
Только теперь книги Владимира Павловича Эфроимсона изданы и переизданы, они входят в золотой фонд российской и мировой науки.
Трудно писать о личностях подобного масштаба. Но даже краткий очерк жизни и творчества этого выдающегося ученого свидетельствует, что вопреки всем преградам и лишениям, высшие нравственные ценности, которыми руководствуется человек, наделяют его несокрушимой силой и непреклонностью, придают жизни и деятельности подлинный смысл.
Профессор Давид Дубровский,
Дом ученых Тель-Авива.