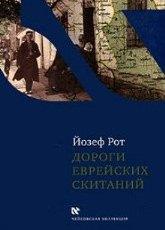Дороги еврейских скитаний
Принося извинение за слишком пространную цитату, нельзя не отметить ее принципиального, концептуального характера. Обращаясь лишь к тем, кто способен страстно и искренне принять судьбы восточноевропейских евреев, унижение и бесправие которых сквернят именно цивилизацию угнетателей, Рот предлагает одну из самых последовательных гуманистических программ.
Но это 1926 год; в предисловии к неосуществленному голландскому изданию 1937-го автор, в соответствии с резко изменившимися историческими обстоятельствами, главное из которых — разгул нацизма и равнодушие Запада, пишет гораздо жестче: «Все вокруг постоянно твердят о “европейской семье народов”. Но если продолжить аналогию: разве можно себе представить, что брат не схватит за руку брата, видя, что тот замышляет глупое или зверское дело? Или же мне позволено учить правилам хорошего тона лишь чернокожих — но ни в коем случае не белых головорезов? Странная, право, семейка, эта “семья народов!”…» Не рискуя ошибиться, можно сказать, что, будь этот текст опубликован вовремя, он встал бы в ряд самых ярких антифашистских манифестов.
Сама книга посвящена различным аспектам того — утраченного, легендарного — еврейского мира, который существовал до второй мировой войны. Рот описывает общее положение евреев на Западе, предлагает зарисовки еврейской жизни в разных странах, демонстрирует особенности гетто в Вене, Берлине, Париже (французская столица оказывается, по Роту, чуть ли не образцом толерантности к евреям; впрочем, здесь могла сыграть свою роль известная галломания писателя).
Среди прочих важных подробностей отметим внимание Рота к поколенческому растождествлению, к растворению младшего поколения еврейских переселенцев из Восточной Европы в социальной структуре «новой родины». Однозначной оценки этому феномену Рот не дает, но ему, очевидно, важны и дороги подробности глубинного, традиционного еврейского бытия. Не случайно очерк «Еврейский городок» — самый теплый, любовный из всех, представленных в книге (стоит прочесть хотя бы фрагмент, посвященный еврейским музыкантам). Напротив, очерк «Еврей едет в Америку» выделяется жесткостью, отчасти даже сатиричностью тона, — но острие этой сатиры нацелено, конечно же, не на еврейских иммигрантов, а на исторические и социальные механизмы, заточенные для максимального подавления и унижения маленького человека — инородца (особое внимание и здесь, и в других очерках автор уделяет разнообразным бюрократическим жвалам: получению документов, регистрации личных имен и т. п.).
Особое место в сборнике занимает финальный очерк о положении евреев в Советской России. Незадолго до выхода книги Рот посетил СССР, внимательно изучая жизнь евреев при новом режиме. Это путешествие можно рассматривать в ряду визитов многих видных западных интеллектуалов в Советский Союз в 1920–1930-х годах. Но, в отличие от более поздних, совершенно постановочных поездок, экспедиция Рота происходила в еще относительно «вегетарианские» времена, когда, помимо всего прочего, евреям действительно предлагалась возможность обустроить новый быт, новые условия труда, обрести новую — равноправную с иными народами — идентичность. Но именно относительно последнего пункта в апологетическом в целом очерке Рота звучат скептические ноты: «Революция не считает нужным задаться старинным и, в сущности, главным вопросом: образуют ли евреи такую же нацию, как любая другая? Или они представляют собой нечто большее — или меньшее? религиозную? родовую? сугубо духовную общность?..»
Однозначного ответа на этот вопрос не дает и сам автор, чья книга тем не менее остается памятником литературы, этнографии — и одновременно глубочайшего человеколюбия.
Данила Давыдов