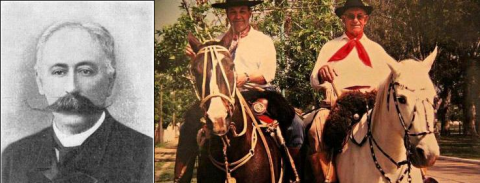Гаучо из России
Аргентина! Когда-то это слово звучало во всех еврейских городах и местечках Российской империи как призыв к освобождению. Аргентина! Название далёкой страны, которое заставило трепетать еврейские сердца, наполняя их радостью и надеждой. Аргентина! Как долгожданный весенний ветер пронеслось по черте оседлости известие: страна для евреев, страна для еврейского земледелия, пришло избавление, барон Гирш! Евреям суждено обновиться и освободиться от жизни, полной унижений, нищеты и погромов. Общественные деятели спорили, писатели – писали, говорливые – говорили, речистые – держали речи, газеты агитировали, кто за, кто против. «Ха-мелиц» и «Ха-цфира»[2] упрямились. Светлые интеллигентные головы дискутировали: является ли Аргентина конкуренцией для Сиона или нет? Одним словом, в еврейской действительности Российской империи Аргентина немало лет подряд занимала значительное место.
Лавочник из Гродно, иешиботник из Бессарабии – сотни, тысячи евреев устремились к новой стране, к новой жизни, к новому быту, к честному и почётному труду. Евреи из народа, здоровяки, широкоплечие молодые люди, полные надежд, пустились в дальнюю дорогу. Когда пароход приближался к берегам загадочной Аргентины, матери говорили своим детям:
– Смотрите детки! Там Рай! Красивая, зелёная страна, которую добрый барон Гирш купил для нас. Землепашцами, колонистами мы станем, свободными евреями мы будем. Конец погромам! Конец Крушевану![3]
На тему эмиграции в Аргентину были сложены песни. В 1894 г. группа евреев из бессарабской Килии пела на пароходе, плывущем к новым берегам, песню-наказ матери сыну, очевидно, не самого примерного поведения:
...Ты едешь в чужую страну,
Не знаешь их обычаев, нравов,
Пусть Бог держит на тебе свою правую руку
И бережёт от всего плохого...
А если ты и там не будешь себя уважать,
То напрасны будут усилия твои,
Там строят страну, чтоб ты мог в ней жить,
Но не забудь, ты должен колонистом стать.
Сам себе хозяин, сам себе слуга,
За старое не берись.
Не воруй, бед не твори,
Живите там как братья...[4]
Радужными были первые письма колонистов: «...В Аргентине колёса телег смазывают сливочным маслом, арбузы и дыни едят с собственных огородов, апельсины кушают круглый год, белую халу по будням, мясо два раза в день, и барон Гирш оказывает финансовую помощь...»[5]. Слушавшие такого рода письма задавали себе вопрос: если там такое изобилие, то зачем же нужна финансовая помощь? Ответ на него они получали уже там, по приезде в Аргентину, где их встречала бесконечная, гладкая как стол и заросшая дикой травой степь, суровый климат, сильные ветры. Их – пионеров, приехавших превратить пустыню в цветущий сад, ждала жизнь, полная лишений, непреодолимых, казалось, препятствий. И не было для них пути назад. Здесь им суждено было остаться, прожить целую жизнь.
Так начиналась ещё одна страница в многовековой истории еврейского народа и новая страница в истории евреев Аргентины.
Прошло четверть века с момента основания первого еврейского сельскохозяйственного поселения (колонии) в Аргентине – Мойзесвил, и в 1914 г. более чем в 16 колониях насчитывалось около 7 тыс. колонистов. К этому времени здесь сформировалась инфраструктура еврейской жизни. Появились религиозные, образовательные, благотворительные организации, объединения культурного и политического характера. Начали издаваться книги и газеты на иврите и идиш. Писатели, поэты, пародисты, писавшие на идиш, стали вплетать в свои произведения красиво звучащие испанские слова: «идишер солтеро» (еврейский холостяк), «идишер гаучо», «идишер маринеро» (еврейский моряк), «компа» (поле) и т.д., что, безусловно, придавало их творениям своеобразный колорит. Вот, например, начало стихотворения поэта Мойше-Давида Гисера «Белокурый гаучо»:
Ты ещё сегодня встретишь скачущего гаучо
В пончо[6] на саинэ[7],
Через пампас[8] далёкие, дикие...
Или куплеты Х.Каца на мелодии аргентинского ранчеро:
...Я спою вам ранчеро Заброшен в глуши,
Еврейского солтеро... На кампах,
аргентинского танго: Вдали от людей,
На пампе –
Я колонист, Стоит моё ранчо...
Популярной была тогда такая рифмованная шутка:
Аргентинэ а ланд, (Аргентина – страна,
Аламбрэ а вант, Аламбрэ – стена,
Алпаргатн а ганг Туфли – алпаргаты,
Матэ – а гэтранк. Ну а водка – матэ.)
В «Антологии еврейской литературы в Аргентине»[9] (539 с. фолио), изданной в Буэнос-Айресе в 1944 г., куда вошли лучшие произведения на идиш, написанные за 50 лет, имеется словарик из 185 испанских слов, вошедших в эти сочинения. К сожалению, до нас не дошел фольклор евреев Аргентины, который, наверняка, начал складываться, когда первый колонист ступил на незнакомый ему берег, впервые копнул аргентинскую землю, или когда был похоронен первый ребёнок, не вынесший сурового климата, или когда первая еврейская проститутка расплакалась здесь песней. Этих песен было немало. Вот, например, начало одной из них:
Лейтесь, слёзоньки мои,
Слёз моих река.
Я поругана,
Как Иерусалимский храм...
А с чего начиналась еврейская литература Аргентины? Один из первых колонистов и еврейских писателей Мордехай Альперсон, о котором речь пойдёт ниже, считал, что точкой отсчёта должен стать 1891 г., когда он на «столе», которым ему служило поле, написал в «Ха-мелиц»: «Хлеб мы будем иметь, но книги и культуру где мы возьмём?». Однако книги в Аргентину стали приходить со всего мира...
Появились первые произведения молодых еврейских писателей, родившихся в Аргентине, так называемых «зелёных». Чуть позже, в 20-е годы, возник конфликт между «зелёными» и пожилым поколением литераторов – «жёлтыми». Первые обвиняли вторых чуть ли не в невежестве и безграмотности. На что, например, представитель «жёлтых», Яков Штрайхер, ответил стихотворением в газете «Ди пресэ»:
Нет, не трогает ни меня, ни собратьев моих,
Что вы, великие перодержатели,
С презрением относитесь к творчеству нашему –
В Аргентине юной.
Вы родились
На вспаханных для вас полях
И у струящихся источников
Отдыхали в прохладе...
Под крышами из крашеной жести и гонта
Вы прятались от дождей
И грелись в холодное время.
А мы в Аргентине юной
Годами дремучие леса,
Деревья в три обхвата корчевали,
Со змеями и крокодилами
Борьбу вели...[10]
В 1914 г. был создан еврейский театр. Евреи стали активно заниматься наукой, работать в различных отраслях промышленности Аргентины. Стало возможным подвести предварительные итоги еврейской жизни в стране, обобщить достигнутое. Стали появляться статьи, книги, мемуары.
Расскажем о трех из этих книг.
Евреи Аргентины в прошлом и настоящем, в словах и фотографиях
Давид Гольдман
Первую попытку рассказать о евреях Аргентины, точнее о наиболее известных из них, сделал 29-летний Давид Гольдман. Книга вышла в 1914 г. в Буэнос-Айресе на идиш. В ней было 2 части и 35 небольших глав, а также ряд очерков о еврейских организациях, товариществах, сельскохозяйственных колониях, учреждениях куль-туры и образования, периодических изданиях.
Давид Гольдман родился в 1885 г. в бессарабском местечке Калараш. Вместе с родителями, в одной из первых групп колонистов, прибыл в Аргентину 14 августа 1889 г. (Как показали последующие события, не зря, покидая Российскую империю, евреи говорили: «Прощайте, погромы!». В м. Калараш, откуда выехали Гольдманы, 23 октября 1905 года произошёл кровавый погром – были зверски убиты и заживо сожжены более 50 евреев.)
На новом месте, в колонии Мойзесвил, которую впоследствии называли матерью аргентинских колоний и даже аргентинским Иерусалимом, отец Давида раввин Арон Гольдман возглавил ортодоксальную общину, о которой рассказывал в своих статьях в «Ха-мелиц» и «Ха-цфира».
В предисловии к своей книге Давид пишет: «Я давно мечтал издать книгу, которая могла бы дать читателю полное представление о социальном и культурном положении евреев Аргентины, о чём даже у нас в стране мало известно»[12]. Действительно, статьи и несколько книг и брошюр, опубликованных в еврейской прессе Аргентины за предыдущие 25 лет, в основном были посвящены вопросам колонизации. Содержание книги, собранный Д.Гольдманом, и обобщённый им фактический материал позволяют сказать, что цели, поставленной перед собой, автор – достиг, а точнее, свою мечту – осуществил.
Гольдман показал роль, которую сыграли евреи России не только в колонизации Аргентины, но и в экономической и культурной жизни этой страны. Две цитаты: «Сразу же с прибытием первой группы русских евреев колонизация получила существенный импульс и развивалась в дальнейшем на удивительно высоком уровне...»[13]; «Только когда русские евреи, 25 лет назад, стали интенсивно эмигрировать в Аргентину, здесь началась их активная деятельность как единой, самостоятельной группы со своей социальной, религиозной и духовной самобытностью. В течение этих лет они достигли значительного прогресса в науке, культуре, искусстве, политике, сельском хозяйстве, торговле, индустрии...»[14].
Среди героев книги были учёные, служащие правительственных учреждений, руководители предприятий, директора аргентинских театров, писатели, художники, скульпторы.
Большое число фотографий известных в то время в Аргентине евреев, краткая информация об их деятельности позволяет сегодняшнему читателю, да и будущему, увидеть лица соплеменников, тех, кто в далёкой стране около ста лет назад жил, надеялся, мечтал и честно трудился на любом поприще.
Справочный и статистический материал знакомит нас с первыми сельскохозяйственными колониями Аргентины, их становлением, действовавшими там учреждениями и организациями, вкладе евреев в развитие сельского хозяйства страны/ Книга написана в виде небольших очерков, доступным языком, читается легко и с интересом.
Таким образом, работа Д.Гольдмана подвела итог 25 лет жизни и деятельности евреев Аргентины, стала первым справочным изданием по этой тематике. Содержание книги «Евреи Аргентины...» неоднократно цитировалось различными историками и писателями, зачастую без ссылок на саму книгу и её автора.
30 лет в Аргентине – мемуары колониста
Мордехай Альперсон
Давид Гольдман упоминает в своей книге колониста Мордехая Альперсона как автора ряда статей в газетах «Ха-мелиц» и «Ха-цфира» и брошюры на иврите «Первые халуцы». Эту брошюру называли криком боли недовольных администрацией ЕКО в Аргентине. Чуть позже, в 1922–1928 гг., М.Альперсон издал на идиш трёхтомник под названием: «30 лет в Аргентине – мемуары колониста». Книга получила широкую известность и стала наиболее значительным произведением о колонизации евреями аргентинских земель.
Мордехай Альперсон (1860–1947) родился в селе Ланцкорун, ныне Заречанка, что на Подолье. Его отец, резник и меламед, по приезде в Аргентину преподавал в иешиве. Немало его учеников стали впоследствии раввинами. М.Альперсон, получивший традиционное еврейское образование, впоследствии стал сторонником Просвещения. Он рано начал писать и печататься на иврите. В 1891-м вместе с семьёй выехал в Аргентину, где участвовал в основании сельскохозяйственной колонии Маурицио. В книге: «30 лет в Аргентине...» М.Альперсон продолжил начатую им ещё в брошюре «Первые халуцы» войну против методов работы администрации ЕКО[15]. Содержание первого тома, изданного 1923 г. в Берлине, стало откровением для большинства евреев Европы, мало знавших о деятельности ЕКО, а главное – о тяжёлом, изнурительном труде еврея-землепашца на новой родине. Вот что писал в предисловии к этому тому писатель, журналист и политический деятель Г.Д.Номберг: «Для меня это была книга о еврейском Робинзоне Крузо. Я читал её и перечитывал, и мне не хватало слов благодарности автору за действительно счастливые часы, проведённые за чтением. Это больше чем описание, чем мемуары. Это сама правда, голая правда, поднятая до уровня искусства...»[16]
Для чего М.Альперсон написал свою книгу? Автор так отвечает на этот вопрос: «Я писал эту книгу без “зачем” и “почему”. Я макал перо в свои слёзы и в кровь моих товарищей – эмигрантов. Я честно изобразил все наши считанные моменты радости и бесчисленные страдания... Я не претендую на вашу литературу, не ищу уважения и не боюсь презрения. Что вы можете мне сделать? Чтоб я так жил, – у вас не хватит камней, чтобы забросать ими моё поле. Я колонист и желаю таковым оставаться всю жизнь...»[17]. Это уже не слова еврея из галута, «человека воздуха». Так может говорить хозяин своей земли, творец своей судьбы. 30-летний труд на возделанном им поле выковали у М.Альперсона твёрдый, независимый и, в хорошем смысле слова, мужицкий характер. А ведь свою брошюру «Первые халуцы», изданную 11 годами раньше, он ещё подписал скромным псевдонимом: «Ахад хаикарим», т.е. «Один из крестьян». Воистину – «посеешь труд – пожнёшь характер, посеешь характер – пожнёшь судьбу». Ещё две цитаты из предисловия, дополняющие портрет М.Альперсона: «Вы, любимые читатели, прочтёте страницы моей книги. Благословите ли вы меня или проклянёте – мне всё равно»[18]. И ещё: «...и кого из вас, любимый читатель, Бог наградил чувствительной душой, тот не один раз потихоньку проглотит слезу. Впрочем, и это меня абсолютно не трогает...»[19]
Мордехай Альперсон неоднократно с гордостью подчёркивает: я – колонист! я – землепашец! Читая книгу, мы вместе с ним проходим его нелёгкий 30-летний путь. На возделанных им полях он показывает каждую тропинку, вбитый столбик, посаженный куст, первый зелёный росток, весенний цветок... С ним мы преодолеваем болота и трясины, рвы и глубокие канавы, прыгаем через ямы и колдобины, замечаем то тут, то там следы индейцев, обитавших на тех землях всего за 12 лет до создания колонии. Вместе с М.Альперсоном, с пионерами колонизации мы проживаем в Маурицио все 30 лет – день за днём, месяц за месяцем, год за годом. Но автор книги не только зкзотический Робинзон Крузо – он ещё моралист-обвинитель. Он сбрасывает «талиты» с лжеправедников, утверждая, что слова Иешайи (1, 23): «Главы твои – отступники и сообщники воров» – осуществились при колонизации Аргентины. Писатель показывает, как «извратился еврейский народ в галуте», как он отдалился от земли и земледельческого труда.
Несмотря на утверждение М.Альперсона, что писал он свою книгу без «зачем» и «почему», в конце концов он признаётся: «Какая-та таинственная сила приказала мне – пиши! Не бойся никого, не пугайся даже своих друзей... И я писал», а чуть ниже: «Одна лишь мысль обнадёживает меня – быть может, мой труд будет полезен моим бедным братьям-эмигрантам, которые прибудут сюда из европейского ада... Ради них я написал историю колонизации...»[20]
Совершенно чётко прослеживается отношение М.Альперсона к барону Гиршу, к его идее колонизации Аргентины евреями, а точнее к реализации этой идеи. Первый том, изданный в Буэнос-Айресе в 1922 г., назывался «Колония Маурицио», в связи с чем колонисты других колоний обижались: «Почему Маурицио? – Ведь эта наша общая дорога слёз, которую проделала вся колонизация. Разве наши кости не той же самой железной ЕКО-печатью маркированы? Книга должна иметь обобщённое название»[21]. На что М.Альперсон ответил в предисловии ко второму тому фразой, полной сарказма: «Маурицио оставьте мне, братья! Пусть оно останется законсервированным, забальзамированным, увенчанным лавровыми листьями истории – это же имя нашей любимой, преданной нам души: Маурицио фон Гирш, что ещё, кроме этого имени, останется в истории от всей его идеи колонизации аргентинских земель. Почему? Читайте!»[22] Первая глава 2-го тома называется: «Наследие барона Гирша». В ней речь идёт о некой легенде, бытовавшей среди колонистов:
«Предстал барон Гирш перед ангелом смерти. “Смотри, – говорит барон, – я с собой ничего не взял, всё оставил еврейскому народу, он мой наследник”. “Народу? – засмеялся ангел, – а где же опекуны народа, его общественные благодетели?” Затем во мраке возникает колодец барона Гирша, наполненный золотом. К колодцу с одной стороны приближается “банда опекунов народа, общественных благодетелей”, а с другой – группа французских евреев-аристократов. Вдруг раздался голос: “Как же? Не для вас, французских евреев, золото барона Гирша, а для наших русских несчастных собратьев оно предназначено, мы представители этих евреев, их опекуны...” Между обеими сторонами начинается потасовка. Тогда колонист-извозчик говорит: “Я нашёл выход – пусть представители русских евреев, их опекуны и благодетели держат вожжи, а французские евреи, сидя на оставленном бароном богатстве, держат кнут. Ну и стегать будут вас, лошадки мои...”»[23]
Следует отдать должное последовательности М.Альперсона. 3-й том – «30 лет в Аргентине...», изданный в 1928 г., начинается «Легендой вместо предисловия». Легендой, которая, конечно, как и предыдущая, сочинена автором и называется «Рождение аргентинской колонизации». В ней М.Альперсон иронизирует над отношением отцов еврейской колонизации Аргентины к русским евреям. Так, один из персонажей легенды говорит барону Гиршу и его супруге: «...русские евреи не привыкли к свободе, нужны будут энергичные служащие, чтобы держать их в узде».
Свою трилогию М.Альперсон завершает пессимистически: «...Думаю, что в течение нескольких десятков лет – дай Бог, чтобы я ошибался, – все колонии перейдут в чужие руки и вся еврейская колонизация Аргентины останется в истории как пятно, забрызганное кровью... к стыду еврейского народа и его лживых руководителей»[24]. Но всё же, продолжает он, «луч оптимизма пробивается через мрак, одна мысль закрадывается в сердце – произойдёт чудо, такое же, как сейчас с миллионами людей в России (революция 1917 г. – М.Л.). Гнилой режим авторитарно-бюрократической административной системы управления колониями и режим парижской аристократии в конце концов падут. Извращённое руководство со своими прихлебателями, воры и взяточники, все нечистоплотные души исчезнут. Новые, чистые либеральные люди станут у руля наполовину затонувшего корабля и выведут его к надёжному берегу»[25]. По мнению М.Альперсона, именно они – эти новые люди смогут восстановить доброе имя барона Гирша и еврейского народа. И последние строки: «Сейчас время чудес! Стала же Россия свободной! Пусть с нами произойдёт такое же чудо! Пусть мои глаза увидят ещё реорганизацию всех колоний под руководством свободных, здоровых еврейских колонизационных обществ»[26].
Утверждение М.Альперсона в предисловии к 1-му тому, что его книга не литература, конечно, неверно. Вот что писал о ней эссеист, литературный критик и общественный деятель Яков Ботошанский: «Эта книга охватывает начало еврейской колонизации Аргентины и исчерпывает её почти полностью. Есть главы, которые будут приобщены к легендам о наших святых мучениках. Были, наверное, более талантливые писатели, чем Альперсон, но создать произведение такого качества они не удостоились»[27]. Книга «30 лет в Аргентине...» в переводе на иврит была издана в Тель-Авиве в двух томах в 1930 г.
Альперсон как-то воскликнул: «Писатель? Кому это нужно?» Но вот после успеха мемуаров он в более чем 70-летнем возрасте издаёт на идиш два романа: «На аргентинской земле» (1931) и «Линджеро» (1937), комедию «Арендаторы культуры» (1933), историческую драму «Рут» (1934), сборник «Полевые рассказы» (1943). Известны две его драмы: «Дети пампы» и «Галут». В последней показан конфликт между колонистом-идеалистом и его детьми, сбежавшими в город. Некоторые называли эту драму ...антисемитской. Литературные критики признают М.Альперсона основателем литературы на идиш в Аргентине.
Последние годы жизни он проводил зиму в Буэнос-Айресе, а лето – на своей земле в колонии Маурицио, где и умер в 87-летнем возрасте 24 июля 1947 г.
Еврейские колонии в Аргентине
(Мемуары сельхозкооператора)
Ицхак Каплан
М.Альперсон, говоря о будущем еврейских сельскохозяйственных колоний Аргентины, возлагал надежды на объединения, на общественные формы управления ими без диктата ЕКО. Одной из таких форм совместной организации труда стали сельскохозяйственные кооперативы. Пионером еврейской колонизации, а главное сельхозкооперации в Аргентине был Ицхак Каплан – один из виднейших представителей аргентинского еврейства. В 1966 г., в возрасте 87 лет, он издал мемуары: «Еврейские колонии Аргентины» (576 с.). Книга эта была написана за много лет до её публикации и охватывала период с 1908 по 1948 г., т.е. 40-летнюю историю колонизации евреями аргентинских земель.
Ицхак Каплан (1879–1976) родился в м. Свислочь, Гродненской губернии. Как и авторы двух предыдущих книг, он вырос в религиозной семье. Его отец, Менахем-Мендл, был знатоком талмудической литературы и пользовался в местечке большим уважением. Причиной эмиграции семьи Капланов в Аргентину в 1895 г. стал пожар, в результате которого сгорело всё их имущество. Семья до этого жила довольно зажиточно и покидать Российскую империю не собиралась. Вспоминая это время, И.Каплан писал: «Знает ли человек, что такое хорошо, а что – плохо? Если бы не тяжёлое экономическое положение нашей семьи, нам бы даже не снилось ехать в Аргентину и мы разделили бы судьбу 6 миллионов загубленных евреев, судьбу евреев местечка Свислочь. Непостижимы пути господни!»[29] Когда после несчастья им предложили выехать в Аргентину, отец Ицхака воскликнул: «Ехать с вами в Аргентину? Ведь вы даже не знаете, как выглядит плуг, вы испугаетесь вола, завидев его ещё издали...» Тем не менее И.Каплану предстояло стать в новой стране одним из виднейших деятелей сельскохозяйственного кооперативного движения, хотя ему было нелегко приспосабливаться к новому образу жизни, к новой, непривычной профессии – землепашца.
Мемуары, в числе прочего, знакомят с известной в те времена личностью, неким Иехошуа (Евсеем) Лапиным, который был основным докладчиком на заседании Центрального комитета ЕКО в С.-Петербурге в 1894 г.[30], и смысл его доклада заключался в следующем: Аргентина, по условиям климата и почвы, весьма удобна для основания земледельческих колоний. Политическое положение страны обеспечивает каждому личные и имущественные права. Евреи могут быть хорошими земледельцами, что многие из теперешних колонистов уже успели доказать на деле. Имеется достаточный капитал, чтобы дать делу ход.
По-видимому, И.Лапин был одним из главных администраторов ЕКО в Аргентине. Отзывы о его методах администрирования были не самые лестные. В частности, М.Альперсон одну из глав своих мемуаров называет: «Диктатор Иехошуа Лапин». "Когда появлялся И.Лапин, колонисты говорили: «пришёл самодержавец». Вот что писал о нем И.Каплан: «Лапин сказал нам, что каждый колонист получит по 50 га земли, дом, колодец, 8 волов, 2 коровы, 3 лошади и 10 кур и что всё это нужно выплатить в течение 13 лет. Весь урожай будет забирать ЕКО в счёт долга. На вопросы, что кушать колонистам, за счёт чего одеваться? Лапин отвечал: < >Хозяйка должна сажать овощи, кормить кур, а из мешков из-под муки шить одежды; Ну а если придётся играть свадьбу ребёнку? Покупают четвертинку водки, нарезают булку чёрного хлеба, селёдку и играют свадьбу!»[31] [32].
Ицхака Каплана, так же как и М.Альперсона, волновало будущее колоний, огорчало, что еврейская молодёжь уходила в города и опять отдалялась от земли, от земледельческого труда. Автор предисловия пишет: «Да будут благословенны эти воспоминания о прошлом, потому что они станут служить факелом в среде сомнительной моральной и духовной раздвоенности, которая господствует сегодня в сельской сфере; они будут служить стимулом к тому, чтобы концепция здоровой сельской жизни восторжествовала над сегодняшними городскими привилегиями»[33]. Конечно же, богатый, содержательный материал книги стал важным пособием по истории колонизации и сельскохозяйственной кооперации в Аргентине.
Если сравнивать мемуары М.Альперсона и И.Каплана, можно сделать однозначный вывод: первый – яркий индивидуалист, второй – убеждённый и последовательный общественник. Цитата из мемуаров И.Каплана, которая характеризует эту сторону его деятельности: «Мы никогда не пугались и, не останавливаясь, шли навстречу всем трудностям, не выпуская руль управления из своих рук, пока не поставили общественные институты на надёжный, прочный фундамент»[34]. Ицхак Каплан создал и возглавлял целый ряд общественных организаций. В течение 25 лет он был главным редактором газеты «Колонист-кооператор» (на идиш) и в течение 50 лет сотрудничал с сионистскими и др. общественными организациями. Его называли «вождём и учителем» и ещё при жизни в его честь назвали лес, посаженный аргентинскими евреями в районе Иерусалима.
«Еврейские колонии в Аргентине» не была единственной книгой Каплана. В 1958 г. вышел на идиш сборник его комментариев различных эпизодов из Танаха (348 с.) под названием: «Отзвуки старого хедера», изданный затем в Тель-Авиве в 1964 г. на иврите.
Ицхак Каплан прожил 97 лет и умер в 1976 г. в Буэнос-Айресе. Оценивая прожитое, он сказал: «Мой жизненный путь не был усыпан розами. Очень много терновых колючек кололи меня до крови. Но, оглядываясь назад, охватывая взглядом проделанное, подводя итог, я думаю, что всё же стоило жить...»[35]
Три книги, три автора, три судьбы. В биографиях наших героев есть немало общего. Они родились в религиозных семьях, получили традиционное еврейское образование, эмигрировали из Российской империи, были среди первых колонистов на аргентинской земле, прожили там долгую жизнь, все трое похоронены в Буэнос-Айресе.
Мордехай Альперсон был землепашцем и писателем. Первый том его мемуаров «30 лет в Аргентине – мемуары колониста» считается классическим произведением еврейской литературы Аргентины, а сам её автор – основателем еврейской литературы этой южноамериканской страны.
Ицхак Каплан стал в новой стране земледельцем, сельскохозяйственным кооператором и видным деятелем кооперативного движения. Его книга «Еврейские колонии в Аргентине» является настоящим пособием по истории еврейской колонизации и сельскохозяйственной кооперации в Аргентине. Она была также издана на испанском языке.
М.Альперсон издал свою книгу в 62 года. И.Каплану исполнилось 87 лет, когда увидели свет его мемуары. Давид Гольдман опубликовал «Евреи Аргентины...» в 29-летнем возрасте. Казалось, что ещё немало произведений этого автора ждёт читателей. И, действительно, в конце книги он писал: «К сожалению, из-за отсутствия места не было рассказано о всех существующих еврейских товариществах, общественных организациях, общественных деятелях. Но, без сомнения, очерки о тех, кто не попал в книгу, войдут в 3 и 4 части второго издания»[36]. Это было в 1914 г. Через 31 год, т. е. в 1945–1946, в Буэнос-Айресе издаётся ежегодник «Евреи Аргентины»[37], где печатается статья Д.Гольдмана под заглавием «Буэнос-Айрес –
столица Аргентины» с подзаголовком: «Глава из книги “Евреи Аргентины”, которая вскоре будет издана»[38]. Если судить по статье, то в новой работе Д.Гольдмана должно было быть много таблиц, статистические данные, экономический и демографический анализ теперь уже за 55 лет жизни евреев в Аргентине. Увы, книга так и не появилась. Ещё один штрих к портрету Д.Гольдмана. В 1900 г., т.е. в возрасте 15 лет, он стал кассиром Буэнос-айресской «Хевре-кадишэ» (погребального общества). Позже стал её президентом, проработав на этом посту до пенсии. Умер в декабре 1970 г. Внучки и правнуки Давида Гольдмана живут сейчас в Израиле. Круг замкнулся: Эрец-Исраэль – галут – Россия – Аргентина – Эрец-Исраэль.
Так ли уж непостижимы пути Господни?
*******************************************************************************************
[1] Конный пастух (исп.).
[2] «Ха-мелиц» (1860–1904) и «Ха-цфира» (1869–1931) – одни из первых российских газет на иврите.
[3] П.А.Крушеван – издатель-редактор антисемитских газет «Бессарабец» (Кишинёв) и «Знамя» (СПб.).
[4] Здесь и все последующие тексты песен, цитат, названий книг переведены с идиш автором статьи.
[5] Каплан И. Идише колониес ин Аргентинэ. Буэнос-Айрес, 1966. С.43.
[6] Большой тёплый платок (исп.).
[7] Лошадь (исп.).
[8] Аргентинская степь (исп.).
[9] Антологие фун дер идишер литератур ин Аргентинэ. Буэнос-Айрес, 1944.
[10] Ботошанский Я. Мамэ идиш. Буэнос-Айрес, 1949. С.192.
[11] Гольдман Д. Ди идн ин Аргентинэ. Буэнос-Айрес, 1914.
[12] Там же. С.III.
[13] Там же. С.16.
[14] Там же. С.25.
[15] Евр. колонизационное общество.
[16] Номберг Г.-Д. Предисловие // Альперсон М. 30 иор ин Аргентинэ. Т.1. Берлин, 1923. С.10–11.
[17] Там же. С.13.
[18] Там же. С. 16.
[19] Там же. С. 15.
[20] Там же. С. 15–16.
[21] Альперсон М. 30 иор... Т.2. Буэнос-Айрес, 1926. С.7.
[22] Там же. С.8.
[23] Там же. С.9–11.
[24] Альперсон М. 30 иор... Т.3. Буэнос-Айрес, 1928. С.206.
[25] Там же. С.207.
[26] Там же. С.208.
[27] Ботошанский Я. Мамэ идиш... С.273.
[28] Каплан И. Идишэ…
[29] Там же. С.31.
[30] Лапин Е. Настоящее и будущее еврейской колонизации в Аргентине. СПб., 1894.
[31] Каплан И. Идишэ... С.70.
[32] Сахаров М. Кмо хахакдама // И.Каплан. Идишэ... С.12.
[33] Там же. С.13.
[34] Там же. С.22–23.
[35] Там же. С.24.
[36] Гольдман Д. Ди идн ин Аргентинэ // И.Каплан. Идишэ… С.205.
[37] Иор-бух фун идишн йишув ин Аргентинэ. Буэнос-Айрес, 1945–1946.
[38] Гольдман Д. Буэнос-Айрес ди хойптштот фун Аргентинэ // Иор бух... С.40–44.